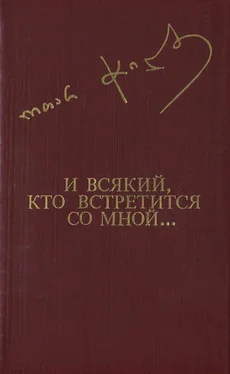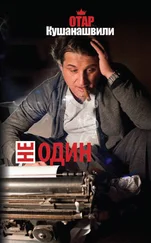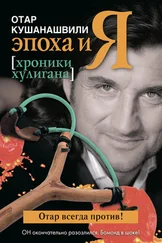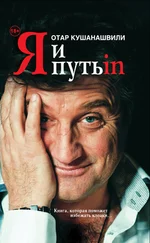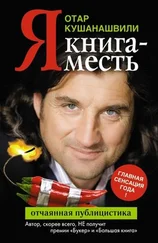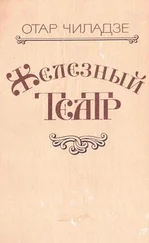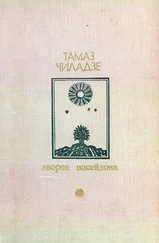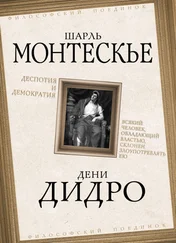Есть признанная классика грузинского исторического романа — тетралогия «Давид Строитель» и «Десница великого мастера» Константина Гамсахурдиа. Читать эти вещи интересно и поныне: из неторопливого, несуетного повествования встает средневековье, встает далекая эпоха со сложными междоусобицами, народами, несущими нелегкое бремя войн, подвигами ратоборцев и зодчих, тяжким движением людских масс. Одно слово: История. Когда в Гелатском соборе под Кутаиси ступаешь на теплую плиту, под которой покоится Дэеид Строитель, поневоле думаешь, что роман Гамсахурдиа сделал для тебя не чужими эти места, что он бережно донес шум далеких битв и кипение ушедших страстей.
И, рассматривая на каменной плоскости храма Светицховели легендарное изображение отсеченной человеческой руки, тоже с благодарностью думаешь о «Деснице великого мастера», воскресившей предание… В этих романах многое способно вызвать интерес любителя истории. Но они, изображая множество судеб и проявляя озабоченность историческими судьбами нации, не очень любопытствуют судьбой, характером, единственностью одного человека. Парадоксально? Однако посмотрим, чем занят разум царя Давида, прозванного Строителем, кроме бесконечных государственных забот и войн за единство Грузии? Несчастной любовью, пронесенной через всю жизнь. Черта характера, что и говорить, емкая, и все же ее маловато, чтобы мы поняли человеческое, нравственное своеобразие изображенного лица в его развитии. Что касается зодчего Арсакидзе в «Деснице великого мастера», то он окружен таким числом действующих лиц (а среди них столь важное, данное с многими подробностями, как царь Георгий, «меч мессии»), что поневоле придешь к выводу: биография, легенда — удачный повод для показа, раскрытия исторической эпохи, важного этапа национальной истории,
Напомню очевидное: литература последнего времени, отражая существенные сдвиги общественного сознания, демонстрирует пристальный, постоянно растущий интерес к миру человеческой личности, ее духовному потенциалу и нравственности. То, что это так, подтверждается и романами Отара Чиладзе.
Не ушедшая эпоха, а человек перед лицом стремительно истекающего времени становится главным объектом романического исследования.
Исторические реалии утратили для писателя прежнее значение — письмо обрело вольное, с явным учетом современных литературных тенденций, течение.
В романе «Шел по дороге человек» Отар Чиладзе пишет о колхах, своих далеких предках из легендарной черноморской страны. Отсюда — истовость письма, внутренний напор самоутверждения. Что ни говорите, а по этой земле ходили Ясон и Медея, здесь шли схватки вокруг золотого руна… Романист творит на площадке мифа, древнего предания, которую явно не забывает своим вниманием современная литература, столь чувствительная к национальному моменту. Надо ли говорить, что нередко миф — только «повод для».
Видимо, страсть к апокрифам заложена в человеческой природе. Иначе канонические памятники христианской литературы не обрастали бы таким числом апокрифических версий. Апокриф — это взгляд на авторитет сквозь призму сомнений и скепсиса. А разве так уж редко помогали людям познавать мир оплодотворенные ищущей мыслью сомнение и скепсис?
Умная непочтительность в отношении к общеизвестному — это сбрасывание пут догматизма, это возможность получить доказательства глубокой многозначности исторического факта, самой истории. Иронический апокриф может нести, таким образом, целую философию действительности.
Право же, ирония может быть названа спасительной, если она помогает писателю (а за ним — и читателю) по-новому, свежим и заинтересованным взглядом посмотреть на некоторые легенды национального сознания. Одно из примечательных, симптоматичных явлений современной советской литературы «Воспоминания о Ка-левипоэг» эстонского прозаика Энна Ветемаа, весьма вольное и приземленное переложение народного, национального эпоса. Эпический герой сошел с пьедестала, не потеряв, впрочем, своей привлекательности — и обретя достаточно сложные и многоплановые характеристики.
В способности подвергнуть плодотворному сомнению общеизвестное есть ощутимая духовная свобода. Продемонстрировать ее соблазнительно. Но Отар Чиладзе дает свою версию прошлого, избежав иронического апокрифа как жанра. Его роман пошел несколько иным путем, хотя авторская ирония, авторское сомнение время от времени проскальзывают в интонации повествования.
Читать дальше