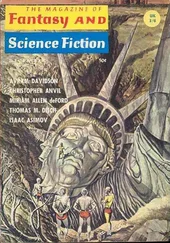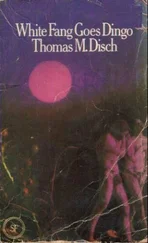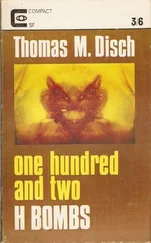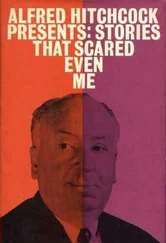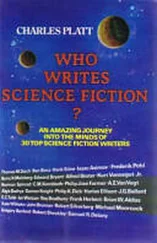– Почему бы тогда не грязный старикашка? – поинтересовалась она, имея в виду Алену.
– Потому что он грязный старикашка.
– Это не причина. Ему наверняка башляют не меньше, чем певунье.
– Я не о том.
О чем он, так просто определению не поддавалось. Будто бы то и стремает, что замочить грязного старикашку проще пареной репы. Стоит увидеть такого во вступительных кадрах фильма, очевидно, что доживет он максимум до второй рекламной паузы. Он – непокорный гомстедер; закоснелый старший научный сотрудник, рубящий как бог в алголе и фортране, но неспособный разгадать тайны собственного сердца. Он – сенатор от Южной Каролины, личность по-своему весьма специфически цельная, но все равно расист. Убить такого – слишком уж напоминает сюжетный ход из какого-нибудь папочкиного сценария, чтобы символизировать настоящий бунтарский дух.
Но произнес он, неправильно истолковав собственные тонкие душевные движения, следующее:
– Потому что он этого заслуживает, потому что мы только поможем обществу. И не спрашивай меня, пожалуйста, о причинах!
– Ну, не стану даже притворяться, будто понимаю, но знаешь, что я думаю, Маленький Мистер Губки Бантиком? – Она сбросила его руку.
– Думаешь, я сдрейфил.
– Может, лучше бы тебе как раз дрейфить.
– Может, тебе лучше бы заткнуться и оставить это мне. Я сказал, что умочим. Значит, умочим.
– Его?
– Ладно. Только, Ампаро... надо бы придумать, как этого деятеля звать, кроме “грязный старикашка”.
Она перекатилась у него из подмышки и поцеловала его. Мелкая испарина покрывала их с ног до головы. Лето заблистало восторгом первого вечера. Они ждали так долго, и наконец занавес поднимался.
День “М” назначили на первый июльский уик-энд, патриотический праздник. Компьютерам наверняка получится уделить время и собственным нуждам (которые характеризовались, кто во что горазд, как “исповедь”, “сон” или “плановый проблев”), и Баттери-парк будет, как никогда, пуст.
Тем временем их проблемы сводились к тому же, к чему у всех детей на каникулах, а именно, как убить время.
Конечно, книги, конечно, шекспировские марионетки, если не лень было стоять в очереди, конечно, всегда ящик, а когда сиднем сидеть доставало хуже горькой редьки – гонки с препятствиями в Централ-парке, только народу там было что леммингов. Баттери никогда не ставил перед собой задачи удовлетворить чьим-то нуждам, так что столпотворение там случалось редко. Если б александрийцев собралось побольше и не лень было б отвоевывать место под солнцем, можно было бы погонять мяч. Ладно, следующим летом...
Что еще? Конечно, политические марши, а для аполитичных, в меру аполитичности каждого, соответствующая религия. Не говоря уж о танцульках – но Лоуэнская школа намертво отбила у них тягу к большинству подобного толка любительских мероприятий.
Что до верховного досуга – секса, – для большинства их, кроме Маленького Мистера Губки Бантиком с Ампаро (да и для них тоже, когда дело доходило до оргазма), тот все еще был чем-то происходящим на экране, дивной гипотезой, которой не хватало эмпирического доказательства.
Так или иначе, все это было потребительство, чем бы им ни пришло в голову заняться, а пассивность их уже утомила (кого нет?). Им было двенадцать, или одиннадцать, или десять, и им надоело ждать. Чего ждать, спрашивали они.
Так что, кроме как когда они просто бездельничали и слонялись сольно, все эти потенциальные возможности – книги, марионетки, спорт, искусство, политика и религии – относились к той же категории полезности, что знаки отличия или уик-энд в Калькутте (название, которое до сих пор можно найти на некоторых старых картах Индии). Жизнь их ничто не расцвечивало, а лето их проходило, как любое другое лето испокон веку. Они плюхались в траву, хандрили, предавались праздности, подтрунивали друг над другом и выражали недовольство. Они разыгрывали в лицах бессвязные, стыдливые фантазии и вели длинные отвлеченные споры на периферийные темы бытия – о повадках тропических животных, или как делают кирпичи, или об истории Второй мировой.
В один прекрасный день они суммировали все имена, вырезанные в камне на монументах солдатам, морякам и летчикам. Цифра, к которой они пришли, оказалась 4800.
– Ничего ж себе, – высказался Танкред.
– Но это же не могут быть все! – настойчиво произнесла Мэри-Джейн, взяв на себя роль гласа народа. Даже “ничего ж себе” прозвучало с откровенной иронией.
Читать дальше