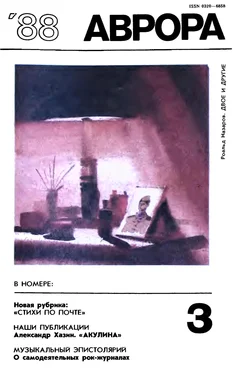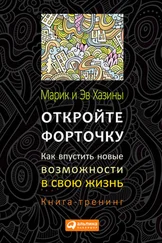— Мой дядя самых честных правил,
Он тут работать бы не смог.
Как часто, с жадностью внимая
Красивым клятвам краснобая,
Мы знаем, что в душе он плут,
Что ждет его тюрьма иль суд,
Что он ворует, окаянный,
И ловко сам уходит в тень…
Нет, верю я — настанет день.
Благословенный и желанный,
Когда в кругу своем родном
Мы лишь с улыбкой помянем
Всех тех, кто нам мешал когда-то
Нечистой совестью своей,
Кто нас любил любовью «блата»,
А может быть, еще нежней.
Читатель, я пишу ретиво
И ты, конечно, справедливо
Задашь и мне вопрос о том,
Как сам боролся я со злом.
Иль, приложив упорный труд,
Писал народному контролю,
Иль как писатель не зевал
И письма в прессу посылал…
Что до «Акулииы», то перечитываешь и видишь — не устарела ведь, актуальна сегодня, да еще как, когда мы боремся с показухой, бюрократизмом, политической инертностью во всю силу. Значит, не опоздал сатирик…
Не опоздал.
Опоздали его издатели.
На кладбище в Комарове невдалеке от могилы Ахматовой есть гранитный обелиск: Александр Хазин (1912–1976).

Да:
«Лучше иногда ошибиться, желая принести пользу, чем никогда не ошибаться и никогда не приносить пользы».
Это его слова.
Урок на нынешний день и на будущее.
В последние десять — пятнадцать лет жизни Александр Хазин работал много и разнообразно. Он пишет прозу о войне, сатирический роман, стихи, переводит, пишет для Райкина, для эстрады, для кино. В драматургии он, уроженец Харькова, окончивший там электротехнический институт, обращается к образу Артема (Ф. А. Сергеева), члена и кандидата в члены ЦК партии при Ленине, руководителя Харьковского вооруженного восстания в 1905 и в 1917 годах, в 20-м году — секретаря Московского комитета РКП (б), весельчака и фантазера, погибшего при испытании аэровагона. Драма «Артем (Пепел Клааса)» шла в Москве у вахтанговцев, в Чехословакии, в других городах нашей страны. В Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина заглавную романтическую роль играл Игорь Горбачев, а роль летописца репетировал великий Симонов. Я и теперь помню его мудрый, взволнованно читавший голос:
Тетрадок школьных линии косые,
Полетами наполненные сны…
Восторженные мальчики России,
Прошедшего столетия сыны!
Пока еще садитесь вы за парты,
Не знает мир доверчивый того,
Что это вы — Рылеевы его,
Плехановы, Толстые, Бонапарты,
Что здесь начало, здесь уже исток,
Надежд очаг и честолюбий рынок,
Злодей и гений, доблесть и порок
Уже ведут свой вечный поединок.
И где-нибудь, лишь загляни в окно,
Уже сидит, одетый неказисто,
Малыш с душою графа Монте-Кристо,
Глядит в букварь грядущий Сирано…
А кто же ты, задумчивый мой мальчик,
Каким пойдешь загадочным путем?
Не Блок ли ты? Не пылкий ли Кибальчич?
Не ты ли назовешь себя — Артем?
Я вижу вас в начале всей дороги,
Отечества любимого сыны:
И маршалы, и юные пророки,
И инвалиды будущей войны…
И все же призванием Хазина была сатира. Он называл ее добрым делом, сетовал, что сатирику чересчур часто приходится, как на весах, точно взвешивать положительное и отрицательное, смеялся, что нельзя же прокурору перед тем, как требовать подсудимому меру наказания, просить для него путевку на курорт. Писатель высмеивал болтунов, эгоистов, жуликов, взяточников, невежд, фарисеев, подлецов, негодяев, бездельников. Да и любил попросту озорно улыбнуться: «Вот с целым ворохом бумажным бежит студент едва дыша, вот по бульвару не спеша идет стекольщик с видом важным, как будто он уже давно в Европу застеклил окно».
Своей речью — ироничной, терпкой, изящной, пересыпанной неожиданными сравнениями и каламбурами, — он умел точно определить порок и заклеймить его носителя: «Душой подлец, одеждой франт, идет по рынку спекулянт». Или: «Весьма упитанная дама ему насущный хлеб дает, но, как всегда, недодает примерно четверть килограмма. И, честь торговую поправ, ее благословляет зав». Или еще: «Нет у меня непосредственных начальников, все посредственные».
Но больше всего доставалось от писателя бюрократу. Бюрократизм он изобличал как социальное и всечеловеческое явление, мечтал о том времени, когда оно исчезнет, трудился по мере сил для его приближения. Уже в «Возвращении Онегина» он писал:
Я вам пишу, чего же боле,
Что я могу еще сказать!
А плуты многие на воле,
А блат встречается опять.
И я брожу, как мой Евгений,
В суетном мире учреждений,
Слагаю горькие стихи,
Простите мне мои грехи.
И я уйду от жизни бурной,
И мой погаснет острый взор,
Но ты, придешь ли, прокурор,
Пролить слезу над ранней урной?
Желанный друг, сердечный друг,
Еще работа есть вокруг.
Читать дальше