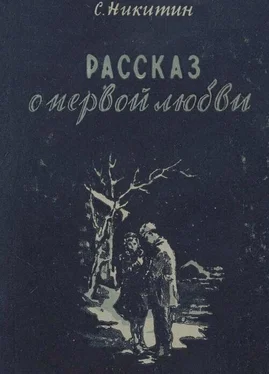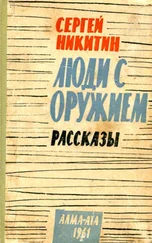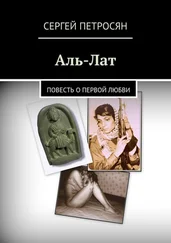Уже светало, когда я шел по улицам, неузнаваемо изменившимся за эту ночь. И перемена была не в том, что кое-где дымились еще теплые развалины, хрустело под ногами битое стекло, что, воя сиренами, проносились машины «Скорой помощи», и не милиционеры, а регулировщики в серых армейских шинелях давали им «зеленую улицу», — нет! Изменился сам дух города, запечатленный, как в зеркале, в посуровевших лицах встречных людей.
Если бы тогда я был более силен в знании жизни и самого себя, то, несомненно, понял бы, что так больно уязвило меня в то утро. Ведь никогда Аля, самый любимый мною на земле человек, не была там, где нам всем приходилось трудно и горько. Быть может, это выходило случайно? Не знаю…
У развалин кинотеатра я встретил Сеньку.
— Сенька, — сказал я ему, — идем добровольцами на фронт.
— Идем, — ответил он.
И мы скрепили это решение клятвенным рукопожатием.
В горвоенкомате мягко, увещевательно отказали в нашей неистовой просьбе, и первого октября для нас начался обыкновенный учебный год с тетрадками, уравнениями, четверками за поведение, а для меня еще и с прежней влюбленностью в Алю Реутову.
Ради того, чтобы чаще видеть ее, я продолжал ревностно исполнять свои актерские обязанности. Однажды случилось так, что после затянувшейся репетиции мы вышли из школы вместе. Я сразу же постарался соблюсти благопристойный интервал в полшага, но Аля с грубоватой усмешкой в голосе сказала:
— Ты бы хоть под руку меня взял. Так скользко, что и шлепнуться можно.
Это, конечно, была не более чем обыкновенная товарищеская просьба, с которой бы она обратилась ко всякому из нас, кто шел с ней после репетиции в одном направлении, но я воспринял эту просьбу как великое счастье.
Была оттепель; тяжелый ветер, пахнущий мокрым снегом, дул из темных провалов улиц, и в голове у меня начинался какой-то ералаш. Благо Аля сама всю дорогу говорила без умолку, так что мне предоставлялась возможность молчать или отделываться разнообразными интонационными вариациями «м-да», значение которых она могла истолковывать, как хотела.
Возле дома Аля остановилась и сказала:
— Можно было бы поговорить еще, но меня сейчас, наверно, позовут.
И действительно, хлопнула дверь, кто-то вышел на крыльцо и окликнул ее.
— Это мама, — заговорщицки шепнула она. Глаза ее зеленовато сверкнули в темноте. — Ты любишь читать?
— Люблю.
— Я тоже люблю. Ты знаешь, конец в книге я сама придумываю, если он мне не нравится.
— Альбина! — еще раз позвали с крыльца.
— Иду! — капризно крикнула она и добавила тихо, для меня: — Мы еще поговорим, потом… Хорошо?
А на другой день, стараясь скрыть смущение, я с нарочитым усердием обивал голиком валенки в сенях у Реутовых. Вопреки моим надеждам, отец сразу же узнал меня и, коротко блеснув усталыми глазами, сказал:
— А тогда по вашей милости мне сто рублей штрафу припаяли.
В комнате, куда я попал из кухни, уютно горела лампочка под большим голубым абажуром с бахромой, которая качалась при каждом ударе дверью, разгоняя по стенам мягкие тени. Здесь мы пили чай, а потом перешли в Алину комнату, сплошь увешанную географическими картами, ковриками, фотографиями и картинками. Все мне нравилось в этом просторном теплом доме (особенно если принять во внимание, что последнее качество было в то время редкостью и ценилось очень высоко), и я старался незаметно притрагиваться ко всем вещам, окружавшим Алю, словно надеялся унести с собой частицу их тепла, чистоты и, может быть, ее самой.
Как-то Аля сказала мне, что летом уедет в Москву учиться. С тех пор меня не покидало тягостное предощущение разлуки, и как бы вне связи с этим я заводил разговоры о том, что учиться можно и здесь, в нашем городе, вспоминал все нелестные для Москвы пословицы: «Москва слезам не верит», «Москва денежки любит», и ясно видел, что моя хитро сплетенная дипломатия ни к чему не приведет.
В десятом классе еще шли экзамены, а мы уже опять работали в совхозе. Рассчитав примерно, когда должна уезжать Аля, я отпросился в город и успел как раз вовремя.
Когда я вошел в знакомый дом и увидел, что все вещи в нем сдвинуты, на полу стоят открытые чемоданы, а у Алиной мамы заплаканные глаза, то понял, что надвинулось то непоправимое и страшное, чего я тайно боялся все это время.
Аля снимала со стены свои картинки. Я не сказал ни слова, а только смотрел на Алю и видел, что у нее тоже заплаканные глаза и красный кончик носа.
— Вот и уезжаю, — сказала она. — Сейчас здесь хаос и все злющие… Ты иди. Мы с тобой увидимся на вокзале. Придешь?
Читать дальше