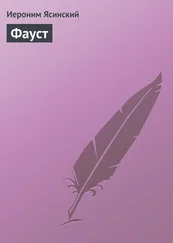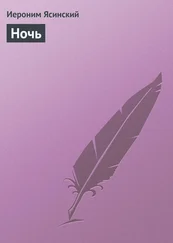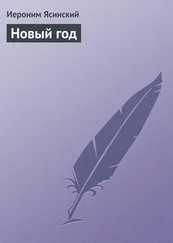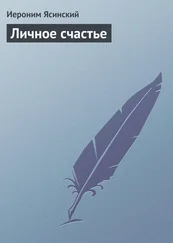Иероним Ясинский
Терентий Иванович
В один жаркий-жаркий день пришлось мне ехать из Киева в деревню, где я жил на даче. Ехал я на извозчичьих дрожках, и колёса, то и дело, прикасались к кузову, со скрипучим шорохом.
– Подвиньтесь, барин, направо…
Я подвигался направо.
– Теперь немножко на эту сторону, барин…
Я подвигался налево – всё равно, шорох не унимался.
– Ишь черкает, чтоб его!.. – произносил извозчик и, сделав «цигарку» из газетной бумаги, курил, поглядывал на колёса и укоризненно качал головой.
Дорога то поднималась, то шла вниз, и везде был песок. Иногда лошадь, замученная, хоть на вид и сильная, останавливалась, трясла головой, и нам надо было слезать и идти некоторое время пешком, под палящим зноем, жмурясь от солнечного блеска, отражаемого ослепительным, мягко волнующимся ковром пожелтевшей ржи. Горячий ветер обдавал пылью, и приходила в голову досадная мысль, зачем я выбрал именно этого извозчика, потому что другой, конечно, повёз бы и скорее, и удобнее.
– Что ваша лошадь всегда была такая? – спросил я почти сердито.
– Как можно всегда! Кобыла была первая в городе. Вы не знали Трофима Трофимовича Калача? В палате служил… В тысяча восемьсот семьдесят третьем годе умер. Так это его была кобыла.
– С тех пор прошло много лет. Больше десяти!
– Верно. Да у Трофима Трофимовича покойника она годов пятнадцать прослужила. Добрая кобыла! Бывало…
И радуясь, что недостатки настоящего времени можно заслонить воспоминаниями о славном былом, извозчик пустился в описание замечательных качеств, которыми обладала при жизни Трофима Трофимовича его тридцатилетняя лошадь.
– Будь такой добрый, – обратился он вдруг к человеку, который ехал позади нас с возом, нагруженным стульями, ванной и шкафом, – поезжай ты вперёд, то моя лошадка охотнее пойдёт за твоей. Видишь сам, какой песок…
После того, как мы потянулись за возом с кладью, замечательная лошадь моего извозчика пошла, действительно, ровнее, но зато мы туго подвигались вперёд, солнце жгло немилосердно, пыль клубилась удушливая. Извозчик, должно быть, почувствовал угрызение совести и решил меня занимать. Сначала он стал говорить о хозяйстве. Он давно уже собирается завести дрожки «как следовает быть», чтоб рессоры были потвёрже, а также намерен продать на Конной свою лошадь и купить другую.
– Боже мой! Бывало, мне такой конец нипочём сделать. Молоньей проскачешь вот на ней самой, ей-Богу! Тут хутор Сокирки есть. Он, значит, монастырский, но только Трофим Трофимович в аренде его держали, и кажинную неделю туда, бывало, ездили. Ну, и я всегда с ними, оттого, что я у них кучером восемнадцать лет служил. У них на хуторе в доме штучка была, – пояснил он.
– Трофим Трофимович молод был?
– Какой бес! За шестьдесят перевалило. Совсем белый как лунь, и коленки дрожат. А только были охотник до женщин, и даже не одна была у них штучка, а несколько. Одна, значит, постарела, а уж две новые подросли. Трофим Трофимович сироток брали, воспитывали как барышень, грамоте и вышиванию, на фортопьянах и танцам… Хороший были человек, а померли как собака.
– Как так?
– Со службы прогнали. Бывало, не только сами ездят, а с компанией. Чиновников наберут – как наедут, то три дня пируют. Без просыпу все пьяны! Дом в лесу. Одно слово, как разбойники. Любили и на охоту. Ничего не убьют, своим порядком перепьются, а ты цельный день мёрзнешь. Через то я сколько раз хотел отходить от них.
– Отчего же не отошли?
– Зацепка была. Ну, и жизнь была. Всего съешь и выпьешь, и работа не очень чтобы тяжёлая, особливо летом, и лишний гривенник от гостя перепадёт…
– А какая зацепка?
– Да что, барин, дело это прошлое. Любовь завелась, вот что! Был я с лица красавец…
Он повернул ко мне лицо. Хотя рыжая с сильной проседью борода его была страшно всклочена и походила скорее на кустарник, откуда, по выражению Гончарова, того гляди – птица вылетит, однако чёрные глаза его не совсем потухли и, окружённые лучистыми морщинами, сохраняли ещё по искре былого огня и былой красоты.
– Влюбился я, барин, право слово моё.
– В штучку?
– В неё самую.
Он помолчал.
– Что ж, она была красива?
– Нельзя сказать. Бледная очень из себя, волосы до пят, сидит у окошечка и всё думает. За это я её и полюбил.
– А она?
– И она тоже. Сама ко мне светом на конюшню пришла. «Что это, – думаю, – ворошится белое? Уж не ведьма ли?» Цап, а оказывается барышня, Надежда Михайловна.
Читать дальше