– Если ты не хочешь брать меня во Францию, позволь мне хотя бы проводить тебя до побережья, – взмолилась я.
Но Дэвид снова грустно покачал головой.
– Это лишено смысла, дорогая. Неужели ты думаешь, что сказать «прощай» в Дувре будет легче, чем здесь? Я хочу, чтобы в памяти моей вы сохранились вместе: ты, дети, этот дом – свидетель нашей счастливой жизни. Милая, в следующие несколько недель мне понадобится все мое мужество, помоги мне в этом, пожалуйста. Не делай так, чтобы мне было еще труднее.
И все же я не могла безоговорочно принять то, что он говорил, выполнить то, о чем он просил. Меня возмущала пассивная роль, которую отвел мне Дэвид, и моя собственная неспособность изменить его решение. Однажды утром я увидела его одетым в зеленую военную форму, под мышкой он держал шлем со смешным украшением в виде сосиски, которое обозначало принадлежность к артиллерии. Мне показалось, что сердце мое вот-вот остановится. Дэвид был грустным и одновременно каким-то торжественным, во всем его облике чувствовалась твердость, и даже хромота, казалось, куда-то исчезла.
В нашу последнюю ночь моя уязвленная гордость взяла верх над любовью, и, когда муж подошел ко мне, чтобы обнять, я оттолкнула его от себя.
– Зачем мне рисковать и рожать от тебя еще одного ребенка, если ты, возможно, никогда не вернешься!
Его лицо, освещенное огоньком свечи, стало жестким.
– Это наша последняя ночь, Элизабет, – сказал он, – но я не стану упрашивать тебя, если ты хочешь именно этого.
– О, мой дорогой, – с рыданиями упала я в его объятия, – я так сильно люблю тебя, ну почему ты уходишь!
Дэвид стал нежно целовать меня, ничего не ответив, поскольку ответа на этот вопрос быть не могло. Розовый туман окутал нас, и я еще раз познала счастье.
Когда на следующее утро мы прощались, моя гордость и обида из-за того, что меня не взяли с собой, не позволили мне заплакать, и теперь я рада этому.
– До свидания, жизнь моя, – хрипло произнес он. – Я буду писать тебе так часто, как только смогу. Храни детей до того момента, когда мы снова будем вместе.
– Ты вернешься? – спросила я, и на лице Дэвида появилась его удивительная улыбка.
– Даже если мне придется ползти сюда.
– До свидания, любовь моя, – прошептала я, и он вновь ушел от меня. Стояла последняя неделя мая.
В первую неделю июня Дэвид со своей батареей перебрался в Бельгию. Он писал мне практически каждый день, и сейчас, когда под моим пером появляются эти строки, его письма лежат рядом со мной – необычные для солдата. В них почти нет упоминаний о войне, все они – о Спейхаузе, о деревне, о детях, о его чувствах ко мне. Я пыталась отвечать ему в том же духе, но мои письма невозможно даже сравнить с одухотворенной прозой его посланий.
Слова Дэвида о том, что мое место – в Спейхаузе, полностью подтвердились к концу первой недели июня, когда и Артур, и Каролина слегли с тяжелейшей скарлатиной. Мы с Мартой не покладая рук ухаживали за двумя заболевшими детишками. Даже Марта, никогда не терявшая духа, теперь, перед лицом тяжелого недуга, выглядела взволнованной.
К вечеру 18 июня я, вконец измученная, с беспокойством увидела, что лицо Марты покрыто какими-то странными пятнами. В испуге я подумала, что она, возможно, и сама заболела той же болезнью, но потом с изумлением увидела, что моя верная спутница плачет. Я прокляла собственную глупость: ведь Марта была уже далеко не молоденькой, и тяжелый груз по уходу за больными детьми, который она взвалила на себя, оказался для нее непосильным. Я уложила ее в постель, но, поскольку и сама была слишком измучена, даже не подумала о том, насколько странно было видеть ее плачущей.
«Чем было продиктовано нежелание Дэвида взять меня с собой, – часто задумывалась я, – рассудком солдата, не хотевшего, чтобы его отвлекали от службы, или он действительно обладал неким даром предвидения, позволявшим ему заглядывать в будущее? Что руководило им: нежелание, чтобы я видела ужасы войны, или стремление оставить меня рядом с теми, кто действительно нуждался во мне гораздо больше?»
Как бы то ни было, он оказался прав, и потому я не появилась на великолепном балу у герцогини Ричмондской, который состоялся в Брюсселе вечером 17 июня, и не увидела собравшийся там цвет британской армии. Меня не было в Брюсселе и весь долгий день 18 июня, когда над полем Ватерлоо грохотали пушки и враги сошлись в последней смертельной схватке. [38]Я не была там ранним вечером, когда на правом фланге разгорелся жестокий бой и подполковник Дэвид Прескотт обнаженной шпагой направлял безжалостный огонь своей батареи на гордо марширующие ряды императорской гвардии. Я не видела, как рядом с ним упало ядро и он был разорван его осколками на мелкие части, умерев раньше, чем его тело прикоснулось к земле. Я не была там, когда подсчитывали убитых и скорбные списки павших стали поступать в город, в печали праздновавший победу. Моя жизнь не закончилась ночью 18 июня, поскольку я находилась дома в Спейхаузе, нянчась со своими больными и еще не зная о своей собственной смерти.
Читать дальше
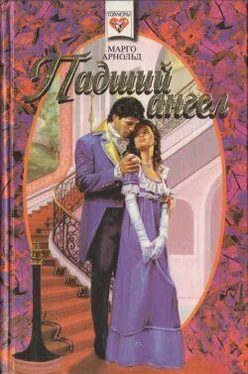



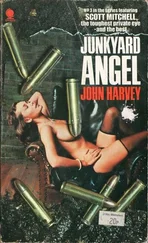
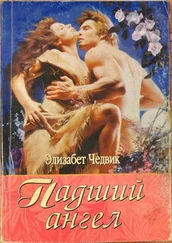

![Райчел Мид - Блюз суккуба [= Падший ангел]](/books/415054/rajchel-mid-blyuz-sukkuba-padshij-angel-thumb.webp)


