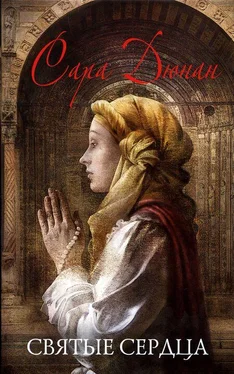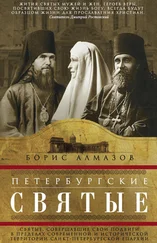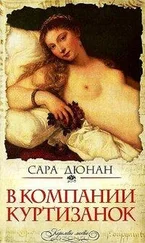Если ты выходила из запертых дверей на пристань в ту ночь, то знаешь, что меня там не было. Я, тот, кто под страхом смерти устроил твой побег, бросил тебя в последнюю минуту. Однако ты не знаешь того, что только смерть — или чрезвычайная близость к ней — удержала меня вдали от тебя в ту минуту. Несколькими ночами ранее нашего предполагаемого побега бывшие друзья напали на меня с кинжалами и, сочтя мертвым, бросили на берегу. С тех пор я не один раз жалел, что и впрямь не умер тогда. Но Господь со мной, и Он хранит меня.
Я пишу тебе из дома добрых людей, которые нашли меня, приютили и заботились обо мне. Однажды ты говорила, что боишься, как бы твое заточение не было наказанием Господним за нашу любовь. В худшие минуты я задумывался над тем, не было ли оно наказанием и для меня тоже. Я знал, что если выживу, то никогда не увижу тебя снова. Но вот, когда миг настал и я должен ехать, я не могу покинуть тебя, не поговорив с тобой в последний раз. Не сказав тебе, что я не предал тебя и никогда этого не сделаю…
Зуана останавливается. Чтение любовных писем — новое для нее искусство. В том возрасте, когда другие девушки вздыхают над сонетами и придворными мадригалами, она выращивала рассаду и учила наизусть названия органов тела. И не жалеет об этом, ибо разве можно оплакивать то, чего никогда не имела? И все же, все же… как убедительно и честно пишет этот молодой мужчина. Аббатиса наверняка сказала бы, что это все ложь, родившаяся из похоти, как мухи рождаются из навозной кучи. Но откуда ей знать? Зуана возвращается к письму.
Я в отчаянной нужде. У меня нет денег (все, что я имел и что мне удалось собрать для нашей жизни с тобой, было у меня при себе той ночью), я искалечен так, что опасаюсь, мне не получить уже изысканной работы. Но все же я попытаюсь. Я уезжаю из Феррары на юг, в Неаполь, где, как я слышал, музыкальная культура процветает и где я, может быть, найду того, кто согласится держать глаза закрытыми, когда я буду петь.
О нашей связи я не скажу ни одной душе. Однажды ты сказала, что мужчины легко говорят о таких вещах. Ты всегда была мудрее своих лет. Но и ты не все знаешь. Я никогда не полюблю другую и не женюсь. Такое обещание я дал Господу, если Ему угодно будет сохранить мне жизнь, и с радостью его исполню. Каждую ночь, прежде чем заснуть, я слышу твой голос, его красота похищает у тишины ее сладость, его я слышу при пробуждении. Больше я ничего не прошу.
Надеюсь, что сестра, о которой ты говорила и от чьей доброй воли передать это письмо я теперь завишу, поможет тебе найти возможность жить. Прости мне всю ту боль, которую я тебе причинил. Молись за меня, дражайшая моя Изабетта.
Остаюсь навеки твоим Джакопо.
Тишина в келье растет. Девушка неподвижно лежит лицом к стене. Где-то внутри ее, однако, происходит движение. Словно она медленно всплывает с морского дна к поверхности, извлеченная из темноты обещанием надводного мира…
Прорывая поверхность, она видит юношу, шагающего к ней сквозь солнечный туман, у него длинные темные волосы и широкое, открытое лицо.
— Он меня не бросил, — произносит она так тихо, что Зуана едва различает ее слова.
— Нет. Не бросил.
— Он любил меня.
— И похоже, еще любит…
Тут она наконец поворачивается. Зуана протягивает ей письмо, и из-под одеяла появляется рука: бледные ногти, тонкое, как лучина, запястье. Она берет письмо, потом роняет его на постель, как будто оно слишком тяжело для нее.
Зуана достает из-под своего платья бутылек и вынимает из него пробку. Резкий запах коньяка растекается в воздухе. Плеснув немного на деревянную тарелку, она вынимает из-под кровати припрятанный ломоть хлеба и обмакивает в жидкость крохотный кусочек, чтобы сделать его помягче.
— Ну? Будешь теперь есть?
Девушка смотрит на нее нахмурившись, словно ей трудно сфокусировать взгляд.
Рука Зуаны протягивает ей мокрый хлеб.
— Я… я не могу… — шепчет Серафина. — Не могу…
— Что? Неужели голос Юмилианы стал громче, чем его?
Его… Он. Но кто — он? Сама мысль об этом, похоже, заставляет ее колебаться.
— Говорю же тебе, не могу. Оставь меня. — И ее голос вдруг твердеет, наливается ядом и злостью.
Зуана не шевелится. Она уже видела это однажды, много лет назад, в одной печальной и безумной молодой монахине, едва не уморившей себя голодом: в ней на определенной стадии пустота в желудке тоже превратилась в самостоятельную силу, которая, словно водоворот, затягивала и разрушала все и вся, что только осмеливалось бросить ей вызов. Если бы не стремление к чистоте, которым это голодание вызвано, можно было бы подумать, что сам дьявол приложил к нему руку, так отзывается его злорадством этот акт самоистребления.
Читать дальше