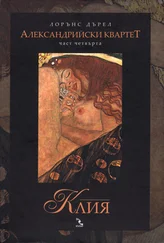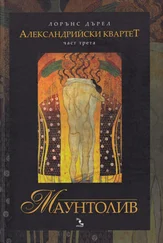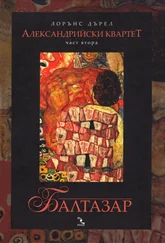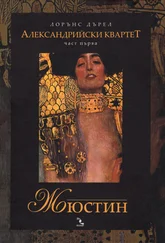Таких мимолетных впечатлений от Жюстины я испытал в разное время много и, конечно, я хорошо знал ее в лицо задолго до того, как мы познакомились: наш город не допускает анонимности для всякого с доходом более двухсот фунтов в год. Я вижу ее сидящей в одиночестве у моря с газетой перед глазами и яблоком, от которого она откусывала, или в вестибюле отеля «Сесиль», среди пыльных пальм, в узком платье с серебряными подвесками, причем свои потрясающие меха она держала за спиной, подобно крестьянину, что носит пальто, продев указательный палец сквозь петлю на воротнике. Нессим остановился у двери заполненной светом и музыкой бальной залы. Он потерял ее. Под пальмами, в глубокой нише двое пожилых людей играют в шахматы. Жюстина остановилась понаблюдать за ними. Она ничего не понимает в самой игре, но аура спокойствия и сосредоточенности, наполнившая нишу, притягивает ее. Она стоит между глухих ко всему игроков и миром музыки долго, словно гадая, в который мир окунуться. Наконец Нессим тихо подходит, чтобы взять ее за руку, и некоторое время они стоят рядом, она наблюдает за игроками, он — за ней. В конце концов, тихо, неохотно, осторожно, слегка вздохнув, она уходит в освещенный мир.
Потом, при других обстоятельствах, безусловно, делающих меньше чести и ей, и всем нам, какой трогательной, по-женски податливой могла быть эта наиболее мужественная и неистощимая из женщин. Она неизменно напоминала мне о породе тех ужасающих цариц, оставляющих после себя аммиачный запах своих кровосмесительных любовных историй, запах, который парил над александрийским подсознанием. Гигантские кошки-людоеды были ее истинными единокровными сестрами. Все же за действиями Жюстины скрывается нечто, рожденное более поздней трагической философией, согласно которой мораль должна быть взвешена на одних весах с плутовством. Она была жертвой действительно героических сомнений. И все же я вижу непосредственную связь между Жюстиной, наклоняющейся над грязной раковиной, в которой плавает вытравленный плод, и несчастной Софией Валентина [2] Валентин (г. рожд. неизв. — ум. ок. 161 г.) — римский философ-гностик, родом из Египта. Гл. идея гностицизма Валентина сводится к признанию основой бытия некой абсолютной «полноты», лишенной всякого различения и оформления. Из нее рождается 30 «эонов» ( греч. — «вечно сущее»). София — верховный эон.
, умершей ради любви, — столь же идеальной, сколь неправедно увенчанной.
В эту эпоху Жорж-Гастон Помбаль, мелкий чиновник консульства, делил со мной маленькую квартиру на улице Неби Даниель. Он — редкая фигура среди дипломатов, ибо, судя по всему, обладает спинным хребтом. Для него однообразие протокола и приемов — как сюрреалистический кошмар — полно экзотической прелести. Он видит дипломатию глазами «Таможенника» Руссо [3] Руссо Анри (1844–1910) — французский художник-примитивист, оказавший огромное влияние на развитие живописи в XX веке. Прозван «Таможенником» из-за долгих лет работы в парижской муниципальной таможне.
. Он снисходит до нее, но никогда не позволяет ей поглотить его интеллект. Я подозреваю, что секрет таится в его колоссальной праздности, которая достигает сверхъестественных пределов.
Он сидит за своей конторкой в генеральном консульстве, вечно покрытой конфетти визитных карточек с именами его коллег. Он — воплощенная леность, огромный медлительный парень, отданный продолжительным полуденным сиестам и детям Кребийона. Его носовые платки чудно пахнут португальской туалетной водой. Любимая тема бесед — женщины, и он дока в этом вопросе, так как посетители его квартирки не переводятся и редко кто заходит сюда дважды. «Для француза любовь здесь весьма необычна. Само действие опережает реакцию. На угрызения совести и сомнения не хватает сил — слишком жарко. В таком анимализме не хватает красоты, но это мне не подходит. Моя голова и сердце изношены любовью. Я хочу, чтобы меня оставили в покое, и прежде всего, мой дорогой, чтобы меня избавили от этой иудео-коптской мании анализа , критического разбора предмета. Я хочу вернуться на свою ферму в Нормандии, эту отдушину для моего сердца».
Долгими зимами, когда он бывал в отъезде, вся сырая квартирка оставалась полностью в моем распоряжении, и я мог сидеть допоздна, проверяя тетради, в компании одного храпящего Хамида. В тот последний год я дошел до точки. Мне недоставало воли, чтобы как-то изменить жизнь, улучшить свое положение тяжелым трудом, написать что-нибудь, даже на занятия любовью. Я не знаю, что на меня нашло. Тогда впервые я испытал настоящее исчезновение воли к жизни. Иногда я просматривал пачку рукописей или старую корректуру романа, или книги стихов, невнимательно, с отвращением и печалью, как человек, изучающий старый паспорт.
Читать дальше