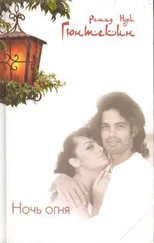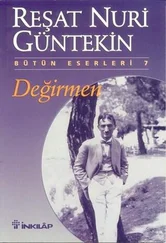Порой у детей не по годам развита необыкновенная интуиция. Я заподозрила неладное: меня хотят разлучить с Хюсейном. Почему?.. Я была слишком мала, чтобы разбираться в подобных тонкостях. Однако я чувствовала, что эта разлука является таким же неотвратимым несчастьем, как наступление тьмы, когда приходит ее час, как потоки дождя в ненастный день.
В ту ночь я неожиданно проснулась. Моя маленькая кроватка стояла рядом с бабушкиной. Ночник под красным колпаком у нашего изголовья потух. Комната была залита лунным светом, который проникал сквозь окна. Спать не хотелось. Меня душила невыносимая обида. Приподнявшись на локтях, я смотрела некоторое время на бабушку. Убедившись, что она спит, я осторожно сползла с кровати и на цыпочках выскользнула из комнаты.
Я не боялась темноты, как многие мои сверстники, не боялась ходить ночью одна. Когда деревянные ступеньки лестницы, по которым я спускалась, начинали скрипеть у меня под ногами, я останавливалась с замирающим сердцем и пережидала. Моя осторожность могла сделать честь любому взрослому человеку.
Наконец я добралась до передней. Дверь оказалась на запоре. Но меня выручило окошко рядом с дверью, ведущей в сад. Оно было распахнуто. Выскочить через него в сад для меня было минутным делом.
Хюсейн спал в сторожке садовника в конце сада. Я побежала прямо туда. Длинный подол белой ночной рубашки путался у меня в ногах. Войдя в сторожку, я забралась на кровать к Хюсейну.
У Хюсейна был очень крепкий сон. Я узнала об этом, еще когда мы жили в
Арабистане 7. Разбудить его по утрам было нелегким делом. Чтобы заставить его наконец открыть глаза, приходилось садиться верхом ему на грудь, словно на лошадь, тянуть за длинные усы, как за поводья, и при этом оглушительно кричать.
Однако в эту ночь я побоялась будить Хюсейна. Я была уверена, что, проснувшись, он не позволит мне, как прежде, лежать у себя под боком, возьмет на руки и, не обращая внимания на мои мольбы, отнесет к бабушке.
А у меня было одно желание: провести последнюю ночь перед разлукой рядом с Хюсейном.
У нас в семье до сих пор еще вспоминают о моей проделке.
Под утро бабушка проснулась и увидела мою кровать пустой. Старушка чуть не сошла с ума. Через несколько минут весь дом был поднят на ноги… Зажгли лампы, свечи, обыскали сад, берег моря, обшарили все — чердак, улицы, сарай, где хранились лодки, дно бассейна. В колодец для поливки огородов на соседнем пустыре опускали фонарь…
Наконец бабушка, вспомнив про Хюсейна, бросилась в садовую сторожку, где и нашла меня спящей на груди у солдата.
У меня хорошо сохранился в памяти день нашего расставания. Это была настоящая трагедия. Сейчас я смеюсь… Никогда в жизни я так не унижалась, так не заискивала перед взрослыми, как в тот день. Хюсейн сидел у дверей на корточках и, не стесняясь, плакал. Слезы текли по его длинным усам. Выкрикивая заклинания, которым я научилась у нищих-арабов в Багдаде и Сирии, я целовала полы бабушкиного и теткиных платьев, умоляла не разлучать нас.
Романисты любят так изображать людей в горе: опущенные плечи, угасший взор, неподвижность и безмолвие — словом, жалкие, немощные существа.
У меня же все было как раз наоборот. Стоит со мной приключиться беде, как глаза мои начинают сверкать, лицо становится веселым, движения резкими, я шучу и проказничаю, от хохота теряю рассудок, словно мне все нипочем на этом свете. Язык мой болтает без устали, я готова совершить любые глупости. И все это потому, как мне кажется, что для человека, неспособного поведать о своем горе первому встречному или даже кому-нибудь близкому, так жить легче.
Помню, что, расставшись с Хюсейном, я вела себя именно таким образом. Невозможно описать всех моих буйных шалостей. Я словно взбесилась. Ну и досталось же от меня моим маленьким родичам, которых взрослые приводили специально развлекать меня.
Однако я очень скоро перестала тосковать по своему Хюсейну — беспечность, достойная всяческого осуждения. Не знаю, но, может, я действительно была на него обижена. Стоило кому-нибудь упомянуть в моем присутствии его имя, как я начинала морщиться, бранить его на ломаном турецком языке, который только что начала усваивать: «Хюсейн плохой… Хюсейн нехороший…» — и плевать на пол.
Тем не менее коробка фиников, присланная мне беднягой, «плохим и нехорошим» Хюсейном, тотчас по прибытии в Бейрут, как будто несколько смягчила мой гнев. С тоской я смотрела, как коробка пустеет, и все-таки в один присест уплела все финики. К счастью, остались косточки, которыми я потом забавлялась много недель. Часть их я перемешала с большими разноцветными бусами, которые обычно вешают на шею мулов от сглаза, и нанизала все это на нитку. У меня получилось замечательное ожерелье, похожее на те, какие носят людоеды.
Читать дальше