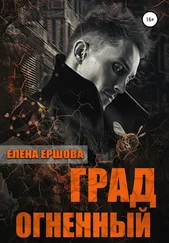Елена Ершова
И ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ!
Ты должен сжечь себя в своем собственном пламени. Как иначе хотел бы ты обновиться, не обратившись сперва в пепел?
Фридрих Ницше
Салон фрау Хаузер, Шмерценгассе.
Ночные мотыльки бились о стекло и гибли. Маленькие глупые смертники.
— Закрой окно.
Его слова — нечто среднее между приказом и просьбой. Голос срывался, отблески газовых фонарей резали роговицу, портьеры качались от сквозняка, будто за ними прятался кто-то живой.
— Опасаешься слежки? — зубы Марцеллы остро белели между устричными створками губ. Она вся облита красным, точно вином. — Не нужно, милый. За нами никого.
Глаза по-лисьи юлили. Натренированным за долгие годы нюхом Генрих чувствовал ложь, а три бокала «Блауфранкиша» сделали его отчаянным и злым.
— Иди ко мне, — он сжал ее запястье.
Марцелла фальшиво вскрикнула и упала на покрывало — расшитое огромными цветами, красными, как ее платье или как вино, что вязко подступало к горлу, — но это только часть игры. Шуршали за окном крылья. Шуршал, опадая, шелк. С нижнего этажа доносился залихватский чардаш. Пол дрожал: в гостиной отплясывали пьяные офицеры. Дрожали стены и фонари на ветру. Генрих дрожал вместе с ними, сам не понимая, от возбуждения или нервоза.
— Снова сбежал, мой золотой мальчик?
Игривый тон уступил место строгим ноткам, от этого изнутри подкатывала пьянящая волна. Генрих соскользнул к разведенным коленям любовницы — бесконечное падение в темноту и грязь Авьенских улиц, в душные ночи, на самое дно, где его совершенно точно никто не найдет и не узнает.
— Негодный мальчишка! — переливчато простонала Марцелла. — Не-хорошо-о…
Первый лживый слог потонул в визгливом завывании скрипок, осталось лишь чистое и сладострастное «хорошо-о…»
Генрих поднял лицо — Марцелла, белая-белая на хищно-алой постели, смеялась блудливыми глазами, — и он хрипло попросил:
— Накажи меня.
Тогда она подчинилась, чтобы подчинить его.
Первая пощечина — как ожог.
Генрих задохнулся от остроты ощущений. Голова прояснилась, в ушах разрастался шелест, словно под черепной коробкой в гулкой пустоте порхали и разбивались мотыльки.
Вторая пощечина пробудила пожар в паху. С крыльев осыпалась пыльца, с него — кичливая позолота титулов, условностей и обязательств. Генрих остался голым и уязвимым, как нищий с Авьенских трущоб. Площадная брань и бесстыдные, грубые ласки казались чище, чем золотая клетка, из которой он сбегал каждую ночь.
Когда Марцелла оседлала его верхом, Генрих уже не помнил, кто он и откуда, весь превращаясь в движенье и огонь. Мир расходился зыбью, скрипки визжали наперебой. Кто-то тихо дышал за портьерами, и осознание, что за ним наблюдают, вышибло из горла стон. Жар выплеснулся толчками, словно прорвался нарыв.
Генрих упал на подушки, разбитый и опустевший. Лицо приятно горело, внутри коченела пустота.
— Я сегодня не перестаралась, милый?
Марцелла подползла ближе, игриво куснула в шею. В ее дыхании все та же пряная нотка, в словах — тревога.
— Нет, — хрипло ответил Генрих. — Так нужно.
Жизнь постепенно возвращалась на круги своя.
За стенкой пьяно хохотали, звонко били часы: время перевалило за полночь.
— Я рада услужить нашему Спасителю.
Он очнулся, с трудом повернув голову. Губы Марцеллы улыбчиво-красны, глаза лукавы.
— Я настаиваю… не называть меня так.
Во рту — пустыня. Выпить бы.
— Как скажешь, мой золотой мальчик.
Марцелла покладиста и готова принять его любым: пропахшим дорогими духами или кислым потом, гладко выбритым или едва стоящим на ногах… чаще всего, не стоящим вовсе. Ее любовь примитивна и прагматична, легко измерима в гульденах, и оттого проста.
Генрих высвободился из объятий и потянулся за сигарой.
— Проверь окно, — сказал он, разминая цилиндрик в пальцах, и тоскуя, что не может ощутить ни шероховатости табачного листа, ни сухости — лишь гладкую кожу перчаток. Всегда только ее.
— Там никого нет.
— Это не просьба, Марци.
В голос вклинилась нотка раздражения, и сейчас же неприятно, точно крохотными иголочками, кольнуло подушечки пальцев.
«Спокойно, — сказал себе Генрих. — Успокойся, пожалуйста. Все под контролем».
И это тоже было ложью.
Марцелла обидчиво приподняла бровь и выскользнула из-под одеяла. Желтый свет омыл нагую фигуру — высокую и стройную, уже начинающую рыхлеть. Марцелла старше на целых восемь лет, но все еще соблазнительна. Ирония в том, что сам Генрих никогда не узнает, каково это — стареть.
Читать дальше
![Елена Ершова Нигредо [СИ] обложка книги](/books/397389/elena-ershova-nigredo-si-cover.webp)




![Елена Ершова - Рубедо [СИ]](/books/397069/elena-ershova-rubedo-si-thumb.webp)
![Елена Ершова - Град огненный [СИ]](/books/397390/elena-ershova-grad-ognennyj-si-thumb.webp)