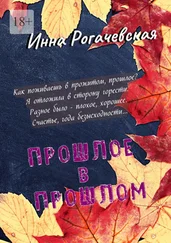Римини не раздумывая приютил тяжелораненую под своей крышей. Все ее желания он выполнял без малейшего промедления, даже не пытаясь оспорить их осмысленность; Вера восседала на кровати, а он бегал по дому и по всему городу. Римини включал и выключал телевизор, ставил индейку в духовку, закрывал ставни, отключал телефон, выходил посмотреть почту и купить сигарет, делал ей массаж ступней, снова выходил на улицу, на этот раз в аптеку, чтобы купить средство для замазывания прыщиков вокруг губ и под носом, подкладывал ей под спину дополнительную подушку, убирал плед, приоткрывал окно и снова закрывал его, оставлял ее спать одну, прибегал по первому ее зову, раздевался, забирался к ней под одеяло, грел ее, прятал ее руки между своими ногами, а затем свои ладони у нее под мышками, — и все это получалось у него легко, как бы само собой; особенно легко и просто было ему с Верой в постели — они были настолько близки, что, казалось, им даже не нужны были органы чувств, чтобы испытывать наслаждение и проявлять свою страсть и нежность, — они перешли порог обычных плотских удовольствий и, погруженные в миллионы и миллионы ежесекундных блаженных спазмов, засыпали, обнявшись и тесно прижавшись друг к другу.
Лагерь беженцев просуществовал восемь дней — вдвое больше, чем разлука, чем то время, в течение которого Вера, по преступному и непростительному недосмотру Римини, была брошена на произвол судьбы в кошмаре субтропических джунглей. Потратив два дня на бесполезные попытки искупить свою вину, Римини даже забросил работу — при этом он странным образом не испытывал ни малейших угрызений совести. Его письменный стол стоял нетронутым день за днем; время вокруг него будто бы остановилось — книги и словари лежали открытыми на тех же страницах, недопечатанный лист так и остался торчать из печатной машинки, прижатый к валику, и Римини, проходя мимо своего рабочего места, всякий раз бросал на него отстраненный взгляд, словно это было рабочее место в музее-квартире какого-нибудь писателя. Большую часть дня он мотался по всему городу, выполняя поручения Веры, которые та диктовала ему по утрам прямо из постели; кровать вообще стала ее генеральным штабом — уютным, теплым и изрядно засыпанным сахаром и крошками от завтраков. Вера была неподвижно стоящим двигателем, а Римини — приводимым им в движение колесом. Или же — Вера была источником излучения, центром вселенной, абсолютным и капризным, который требовал исполнения своих самых примитивных желаний немедленно и безоговорочно: хотело ли небесное светило свежевыжатого апельсинового сока на завтрак, одолевал ли его жуткий голод в часы обеда, хотелось ли ему белых носочков, картофельного пюре, Патрика Зюскинда, побольше сахара везде, где только можно, поносить мужские ботинки на босу ногу — Римини исполнял все эти прихоти с готовностью ближайшего спутника, ослепленного величием своего солнца и ежесекундно ощущающего на себе мощь его притяжения; свою орбиту он покидал лишь для того, чтобы исполнить поручение повелителя где-нибудь на другом конце галактики. Как-то раз днем, съездив в офис «Французского альянса» и заплатив за Веру трижды просроченные взносы, Римини спустился в метро, испытывая то же чувство, что и перед кассиршей, принявшей у него деньги за курсы французского: он был страшно горд тем, что судьба даровала ему возможность представлять Веру перед лицом окружающего мира повсюду, даже в самых удаленных его уголках; посмотрев на отражение в окне вагонной двери, Римини увидел на своем лице совершенно идиотскую улыбку — он и не думал, что способен так улыбаться. Поезд подъехал к станции Трибуналес, где в вагон, как обычно, набилось довольно много народу. Какой-то рыжий мальчишка в школьной форме неловко повернулся и случайно задел щеку Римини углом своей папки для рисования; Римини сжал зубы и был вынужден повернуться спиной к обидчику, чтобы, не дай бог, не пойти на поводу у своих эмоций; он испугался самого себя — в этот момент больше всего на свете ему захотелось схватить мальчишку за волосы и со всего размаху впечатать его лицом в вагонную дверь.
Удивляться, однако, такому настроению не приходилось; вот уже четыре дня Римини не принимал кокаина — четыре дня наркотик был полностью исключен из его жизни. Но эти дни, наполненные заботой о близком человеке, были омрачены не только незапланированной дезинтоксикацией, возможной, пожалуй, лишь под воздействием еще более сильного наркотика, которым является любовь. Не раз и не два, возвращаясь домой с «заданий», как он мысленно называл свои поездки по просьбе Веры, он чувствовал, что в квартире что-то неуловимо изменилось. Что именно, когда и как — он сумел понять лишь несколько дней спустя. В любом случае эти изменения были незначительными, едва заметными — человек менее наблюдательный вообще приписал бы их либо воздействию сквозняка, либо собственной забывчивости. Но мало-помалу свидетельства перемен стали множиться: то телефонная книжка оказывалась не там, где он ее оставил, то ящики стола, вроде бы закрытые перед уходом, были наполовину выдвинуты, то на автоответчике не оказывалось ни единого сообщения; более того, некоторые книги, словно не желая соблюдать алфавитный порядок, стали предпринимать тайные вылазки в его отсутствие, перестраиваясь на полках книжного шкафа по своему усмотрению; в основном этой игрой увлеклись самые большие тома, которые как нельзя лучше подходят для того, чтобы хранить в них кое-какие секреты и воспоминания: салфетки из баров, записки, письма, открытки, фотографии, телефонные номера…
Читать дальше


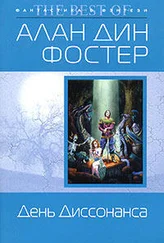
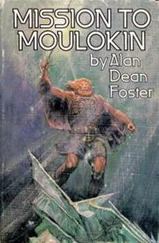
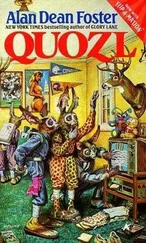

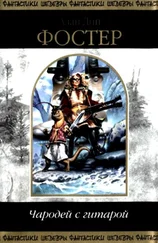


![Алан Джасанов - Мозг - прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/401119/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet-thumb.webp)