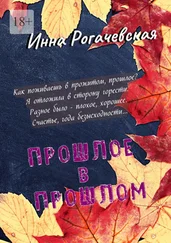Если есть на свете зрелище более печальное, чем неразделенная любовь, то это, несомненно, желание, оставшееся безответным. В любовь, даже в безответную, погружены двое — тот, кто любит, и тот, кого любят; но тот, кто не испытывает желания, вообще ему чужд; мир желания для него не существует, поэтому и приобщить его к этому миру нельзя. Кто «не хочет», не хочет совсем, — вследствие чего тот, кто «хочет», является для него посторонним, если вообще воспринимается как существо того же биологического вида. Каждый из нас наверняка бывал когда-нибудь свидетелем жалкой картины: пес обнаруживает, чаще всего по запаху, присутствие в непосредственной близости суки; в кобеле вспыхивает желание; он кидается на поиски суки и, найдя, набрасывается на жертву с такой яростью, словно хочет ее загрызть, а не удовлетворить половое влечение. Беда в том, что сука в этот момент ничего не хочет; деваться ей некуда, потому что у нее на загривке уже висит здоровенная, намного более сильная псина, и ей остается только стоять, высунув язык, и ждать, когда кобель закончит начатое дело; время от времени она лишь поворачивает морду и косится на своего мучителя, и при этом в ее взгляде можно увидеть не только боль, но и плохо скрываемое презрение. Строго говоря, в этой случке участвуют вовсе не две собаки, а одна — вторая превращается в инертный объект, в каменный истукан, в растение, в представителя иного вида, может быть — в корягу, имеющую форму собаки. Жалким и нелепым делает того, кто хочет, именно эта ошибка в определении биологического вида партнера — а не оценка его и не расчет на то, что удастся получить свое «с ходу».
Свидетелями такой трагикомической ситуации стали в ближайшие две недели сотрудники клуба, чьи смены приходились на утро. Нэнси подкарауливала Римини, а он демонстративно не реагировал на знаки внимания и, общаясь с ней, по большей части смотрел куда-то в сторону — как собака, которая слышит недоступный человеческому уху высокочастотный свист и поворачивает морду туда, откуда он доносится. Все попытки Нэнси пробить эту стену безразличия были безуспешны: Римини общался с нею лишь на чисто спортивные темы. Тогда Нэнси стала пользоваться всеми доступными ей невербальными способами привлечь к себе внимание. Здороваться с Римини она стала во много раз более сердечно и эмоционально, чем раньше: уже не подставляла ему щеку для дежурного поцелуя, а решительно брала его за руку, затем за плечо, притягивала к себе, клала ладонь на его затылок и припадала к нему в коротком, но чувственном поцелуе — причем Римини, как ни старался, всякий раз отставал с ответным; в некотором роде получалось, что это уже не дежурное приветствие, а робкий и смущенный ответ на прикосновение ее губ. Время от времени, забывшись, Нэнси начинала болтать с Римини на самые разные темы, причем так, словно несколько месяцев не имела возможности произнести ни слова. Во время этих приступов красноречия она уже не обращала внимания на безразличие Римини. Нэнси делилась с ним школьными воспоминаниями и сплетнями из парикмахерской; в ход шли пересказы фривольных подробностей из литературной биографии Марикиты Санчес де Томпсон и похвалы в адрес садовника, работавшего при вилле, которая была у них с мужем в Пунта дель Эсте; с Римини поделились информацией о целой коллекции париков лучшей подруги, которой незадолго до этого врачи удалили опухоль мозга размером с небольшую дыньку — то есть все, как понял Римини, чем вообще можно думать; ему поведали о потливости, свойственной предклимактерическому возрасту, и попросили совета, куда ходить — на аштанга-йогу или же на эвтонию; Римини оказался в курсе некоторых подозрений Нэнси по поводу того, как ее служанка развлекается в свободное время, — и вдруг осознал, что, болтая всю эту чушь, его собеседница не забывает всякий раз как бы невзначай задать вопрос-другой, так или иначе относящийся к его личной жизни. Следовало признать, что у Нэнси хватало ума задавать эти вопросы, во-первых, не при людях, а во-вторых — демонстративно понизив голос; она словно давала понять, что, как бы ни были ей интересны эти сведения, смущать Римини или выпытывать у него то, что он хочет сохранить в тайне, она не собирается.
Такое душевное состояние Нэнси не могло не сказаться и на занятиях теннисом. Она и раньше играла не слишком хорошо — а теперь ее ошибки стали к тому же нелогичными и абсолютно непредсказуемыми; она полностью потеряла всякое чувство дистанции — то держалась у задней линии площадки, то зачем-то выбегала к сетке, когда это было совершенно не нужно; она металась по корту беспорядочно, то опаздывая к мячу, то, наоборот, оказываясь в нужном месте слишком рано. Даже неплохо поставленные удары совершенно перестали у нее получаться — и с каждым днем ситуация усугублялась: уже и элементарные драйвы и слайсы выходили по-детски коряво. Римини мысленно окрестил этот стиль — «размахнись коса». Нэнси отвлекалась, начинала о чем-то говорить, смотрела куда-то в сторону, а угодив, например, мячом в сетку, через полкорта шла за ним вместо того, чтобы взять другой мяч — любой из множества тех, что валялись от нее в шаге-другом. Десятую часть этих нелогичных поступков Нэнси совершала неосознанно; остальные девять десятых имели своей целью привлечь внимание Римини, добиться того, чтобы он перешел на ее сторону площадки и стал объяснять ей тот или иной прием игры. Нэнси все казалось, что ей удастся воссоздать тот прекрасный момент первого головокружительного соприкосновения. И Римини подходил к ней, вставал рядом и, следя за положением тела ученицы и постановкой ее рук, синхронизировал движение ее ног, но делал это все с каким-то внутренним безразличием: его совершенно не заводили ни бездонные вырезы на ее блузах, ни нежный, встающий дыбом пушок на загорелой коже, ни ее почти прозрачные шорты.
Читать дальше


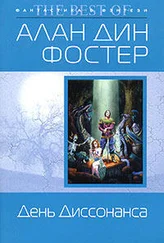
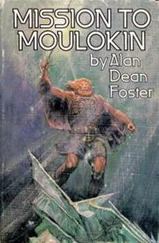
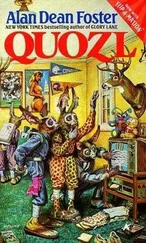

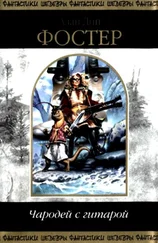


![Алан Джасанов - Мозг - прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/401119/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet-thumb.webp)