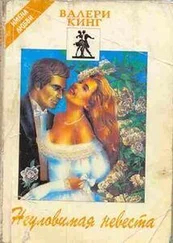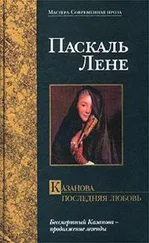Чтобы успокоиться, она закуривала сигарету. И после нескольких затяжек тушила ее, а потом зажигала новую. Так же она начинала фразы и вскоре прерывала их, не в силах вспомнить, что хотела сказать или уже не думая об этом. Все, к чему она прикасалась, превращалось в песок и проходило у нее между пальцами. Ее руки дрожали, ее взгляд тщетно пытался уклониться от того, на что наталкивался и что болезненно задевало ее. Это ее душа неуверенно чувствовала себя в ее собственных глазах.
И тогда она теряла аппетит, не могла больше ничего есть. Обычно это продолжалось несколько дней, иногда — недель. В ответ на мои просьбы она клала лист салата себе в тарелку, но не прикасалась к нему. Она только ждала, когда я закончу свою трапезу, после чего с облегчением убирала тарелки со стола. А днем мне случалось заставать ее с куском хлеба, который она торопливо поглощала, как бы скрывая это. Я одобрительно кивал, чтобы она продолжала: так, по крайней мере, она могла хоть немного перекусить. Я видел, что она смущается оттого, что ее раскрыли: в ту пору она могла есть лишь тайком от меня.
Она говорила, что не хочет больше жить, что ее существование лишено смысла и что у нее никогда ничего не получится: она ждала только, когда умрут родители, чтобы исчезнуть вслед за ними. Она не знала, что именно она должна искупить, но непомерность ее вины угнетала ее.
Потом наступила наша последняя зима. Даже еще теша себя иллюзией, что мы по-прежнему живем вместе, мы уже носили траур по нашей истории. Ты была очень внимательна ко мне, очень нежна, как это бывает в минуту прощания. Ты больше не боялась слов любви. Твои сновидения уносили тебя дальше обычного, и сон стал более спокойным. Наша любовь стала еще более нежной, чем в былые времена, но мы отдавались ей так полно, с таким странным и болезненным сладострастием, уже как бы в память друг о друге, как бы обнимая человека, которого не стало.
Наступила и минута прощения: ты больше не вызывала во мне ревности, ибо было ясно, что я тебя потерял. И ты тоже больше не заводила разговоров о женщинах, которых я когда-нибудь повстречаю: ты оставляла последнее слово за ними. Наши чувства обрели, наконец, ту чистоту, которой ты не находила в них прежде. Для этого понадобился окончательный приговор, вынесенный нашей любви.
На какое-то время я перестал страдать. Мы оба успокоились. Наша страсть окрасилась в угасшие цвета ностальгии. Остался лишь букет бессмертников: так ты уничтожала то, что слишком боялась потерять. Какой насмешкой выглядели наши ссоры и наши сцены ревности по сравнению с этим миром, с этим счастьем, которые мы заметили тогда лишь, когда поняли, что они исчезают!
Чего бы я только не дал несколько месяцев назад, чтобы наверняка знать, изменяла ли ты мне, и с какого времени, и с кем? Чего бы только не отдала ты за то, чтобы поддерживать во мне беспокойство обманутого любовника, чтобы укрыться в нем от мысли о моей собственной неверности? Неужели мы с тобой и в самом деле были этими, не знающими снисхождения противниками? Несомненно! И мы стали бы таковыми снова, в тот самый момент, когда бы нам пришла в голову мысль, что, может быть, наша история еще не совсем закончилась.
Но теперь мы испытывали друг к другу снисходительность, которую, может быть, люди обнаруживают по отношению к умирающим. Мы еще любили друг друга, но уже с оттенком безразличия. Между нами не было больше ни ставок в игре, ни подлинного страдания, остались только сожаление и ностальгия. Подошла к концу наша история двоих, которых, в общем-то, уже не было.
Мысль о твоих возможных изменах теперь терзала меня меньше. Я слишком хорошо понимал твои побудительные причины. Лучше бы я их не знал.
По правде говоря, наши ссоры, наши страдания вовсе не были столь уж незначительными. Только в последние мгновения любви можно стать рассудительным и великодушным: страсть лишена снисхождения. Она эгоистична, несправедлива и не стремится ни к какой истине. Она состоит именно из того, что нас разделило. Я любил тебя так же, как в первый день, но я слишком отчетливо понимал, что мне не удастся тебя сохранить, и лишь какое-то оцепенение смягчало страдание, которое вызывала у меня эта мысль.
Осознание того, что наша история движется к концу, смешивалось с воспоминаниями о моих прошлых ошибках, с чувством моей неполноценности, моей трусости и навязчивой мыслью о моей неспособности быть счастливым. Вроде бы ты еще не ушла, вроде бы все еще оставалась со мной: каждое утро я просыпался рядом с тобой, ты мне улыбалась, мы обнимались, и тогда я говорил себе, что моя горечь и тревога, охватывавшая меня тогда, были знаком того, что я не могу быть счастливым, что я никогда не смогу быть счастливым. Эта боль была не такой острой, как муки ревности или как щемящая тоска во время нашей краткой разлуки. Мне даже казалось, что я уже никогда не перестану его испытывать, это глухое покалывание боли. Я чувствовал, что эта боль всегда будет сопровождать меня, давя все сильнее и сильнее, не давая мне больше отдыха: мое страдание сделалось терпимым лишь для того, чтобы спокойно и неотступно преследовать меня до самого последнего вздоха.
Читать дальше