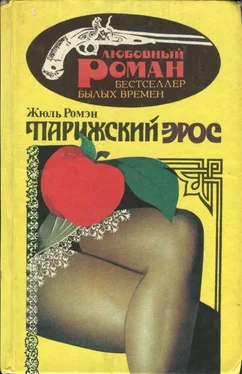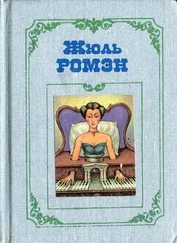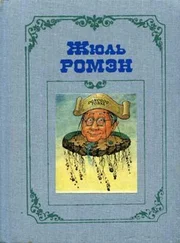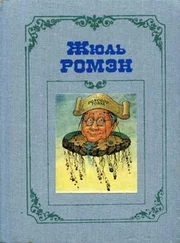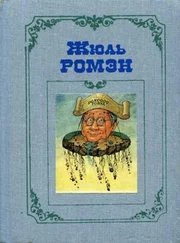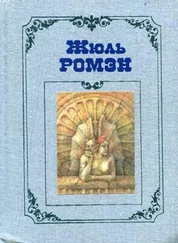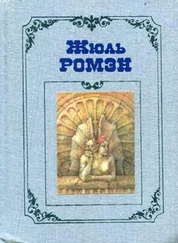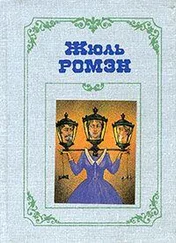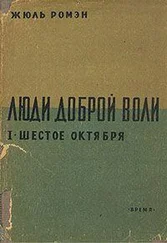Полузакрыв глаза, Мореас дает реять вокруг своей головы чему-то неопределенно светящемуся, образованному из голосов, мыслей, взглядов. Он знает хорошо, что весь этот мирок более или менее занят им. Самое мимолетное движение на его лице не останется незамеченным. Даже неопределимые и передаче не поддающиеся элементы его боли становятся своего рода публичной мистерией. У него всегда была потребность обретать подле себя живые отражения своего величия. Нельзя удовлетвориться отвлеченной славой, вытекающей из доказательств и рассуждений. Разве боль удовлетворяется своей идеальной формой? Разве не становится она веществом и плотью, чтобы утвердиться в человеке? Слава тоже должна быть реальной, подобной дыханию, веющему в лицо.
Он запрокинул голову. Почти совсем закрыл глаза. «Завтра, кажется, Рождество… Рождество на западе». Он старается вспомнить, чем было для него Рождество в детские годы, когда-то, Рождество в Греции. Но что ему в том? Не хочется вспоминать. «Душа моя скорбит смертельно… Вот уж совсем не рождественская мысль… Тот же сказал эти слова, но позже, при совершенно других обстоятельствах…»
* * *
Вокруг жужжат суетно разговоры. Стрижелиюс проводит интересную, по его мнению, параллель между поэтическим воображением и движением газовых молекул. Он утверждает, что в мозгу поэта элементарные идеи пляшут, сталкиваются и отскакивают столь же случайным образом, как описанные Максвеллом молекулы в сосуде, и что роль ума, как и роль «маленького демона» у Максвелла, заключается просто в том, чтобы открывать или закрывать заслонку перед случайно появляющимися идеями. Таким образом, даже функция гения сводится к обязанностям сторожа и браковщика. Гениальность — это всего лишь критическая бдительность. А вдохновение, в лучшем случае, — известная температура, усиливающая хаотическое движение внутри сосуда. Но Стрижелиюс говорит менее ясно, чем мыслит. Речь у него быстрая и порывистая. Кроме того, он оперирует понятиями, незнакомыми его слушателям. Его считают туманным мыслителем, у которого есть свои точки помешательства; и вдобавок бесплодным. Ему тридцать пять лет, а он еще ничего не сделал. Развенчать гениальность он усиливается потому, что обозлен своею бездарностью.
В другом конце залы Ортегал подвергается любезной атаке. Его просят объяснить, как он оправдывает теоретически свои самые последние полотна. Что означает это разложение форм на их геометрические элементы? Да и разложение ли это? И не состоит ли его цель, скорее, в синтетическом созидании совершенно новых и произвольных форм? Ортегал улыбается, уклоняется от объяснения. Иногда роняет, с испанским акцентом, короткую фразу, отдающую лукавством, но непонятную. Слушатели ее и не понимают. Но избегают расспросов, боясь показаться дурнями.
За другим столом беседуют о последних выпусках «Стихов и Прозы», «Фаланги», «Меркюр де Франс». Считают их, в общем, серыми. «Меркюр де Франс» мало-помалу теряет свое положение передового литературного органа и превращается не в толстый официальный журнал, но в альманах. Анкета Анри Клуара о «национальной литературе» в «Фаланге» вызвала скучные, как дождь, ответы. При такой теме это было неизбежно. Каким надо быть типичным учителем словесности, чтобы задать такое сочинение? Зато в той же «Фаланге» Валери Ларбо недавно поместил «Портрет четырнадцатилетней Элианы» — чудо психологии, спокойной смелости и художественной выразительности. Что касается «Стихов и Прозы», то их ноябрьский выпуск производит смешанное впечатление. Напрасно Реми де Гурмон дал для него два посредственных стихотворения, отдающих самым затхлым символизмом, и тем самым доказал, что строгий ценитель поэзии способен на досадные поблажки по отношению к себе самому. Большое произведение Лорана Тайада в похвалу «Мира» — характерный образец риторического пустословия. Легко себе представить написанную тем же пером велеречивую похвалу войне. Небольшое стихотворение Андре Сальмона «Четырнадцатое Июля» очаровательно. Жюль Ромэн печатает продолжение «Существа в пути». Впечатление довольно сильное, хотя трудно покамест высказаться. Оригинальность более агрессивная, чем в «Единодушной жизни», возбуждавшей столько споров за последние полгода. (Полю Фору она очень нравится. А Мореас? Он ее не читал. Он ничего не читает. Но недавно он сказал Ромэну отечески-негодующим тоном: «Говорят, вы пишете белыми стихами?») Ромэн как раз присутствует здесь. Это вот тот молодой человек с большой черной бородой и синими глазами.
Читать дальше