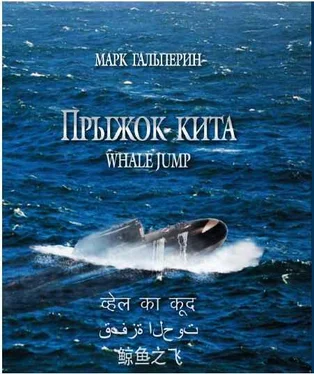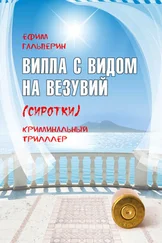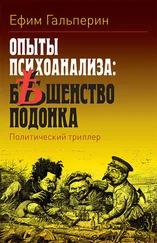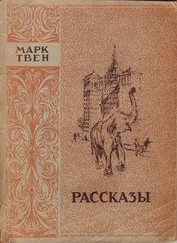Старосовская команда так никогда и не перемешалась со вновь пришедшими вЛКТБ людьми, руководителями верхнего и среднего звена, команда уцелела. Нас пытались столкнуть лбами, натравить друг на друга – ничего не получалось: мы все остались сами собой.
Во многом этого удалось добиться благодаря тому, что мы блестяще закончили «Узел», и это резко изменило отношение к нам Олега Васильевича Филатова. Он признал нас на самом серьёзном уровне и много раз в конфликтах наших с коренными светлановцами с присутствующей ему твёрдостью вставал на нашу сторону.
Пожалуй, тяжелей всего пришлось в этой ситуации нашему новому начальнику, Виктору Пантелеймоновичу Цветову, с которым мы проработали чуть дольше, чем со Старосом. Ведь всё это время он, общаясь с нами, представлял себя сидящем на стуле, который был выбит из-под Староса, — правда, не им, не по его вине и без его участия. Он, я думаю, мысленно видел на стене своего кабинета портрет Филиппа Георгиевича, как будто это была фреска, спрятанная под толстым слоем краски под сводами древнего храма. В конце концов этот портрет и вправду проявился на стене бывшего кабинета Филиппа Георгиевича, когда его занял один из любимцев Староса, Евгений Иванович Жуков, ставший Главным инженером, а фактически – полноправным руководителем того, что осталось от фирмы Староса в тяжёлые постперестроечные годы. Но произошло это через 15 лет после закрытия ЛКБ и смены руководства и через 10 лет после смерти Филиппа Георгиевича. Но это произошло!
А пока мы продолжали трудиться на «Позитроне», в составе 9-го Главного управления, при их огромной помощи, поддержке и, конечно, жёстком контроле. По сравнению со временем работы над опытным образцом работать стало труднее. Во-первых, в рамках самого «Узла» усилия отвлекались на создание новых производств в разных частях страны – узловцы всех уровней разрывались на части, спали в поездах, самолётах, на вокзалах и в аэропортах. Во-вторых, «Узел» уже не был монокультурой ЛКБ, перед коллективом стояли новые задачи по основному направлению – развитию микроэлектроники. Создавалось новое направление техники – большие интегральные схемы и аппаратура на их основе. Для начала это были микрокалькуляторы, и опять «Первые. Оригинальные. Отечественные!»
В новом производственном комплексе, в высотном здании, которое и сейчас стоит мрачным памятником перестройке на въезде в город со стороны Москвы, появляются первые в стране «чистые комнаты». Самостоятельно создаётся новое оборудование, которое в стране тогда ещё никто не производил – это установки для рисовки фотошаблонов, измерительные системы, системы машинного проектирования и многое другое.
Новая ситуация привела к неизбежному перераспределению ограниченных ресурсов предприятия, крутиться нам стало значительно труднее. Серьёзную помощь мы получили от Центрального конструкторского бюро технологического оборудования, обладавшего прочной производственной базой по изготовлению механических узлов. Это бюро получило задание от Генерального директора «Позитрона» взять на себя изготовление механики для приборов ввода в оружие и приёма информации от навигационной, акустической и радиолокационной аппаратуры. Новые работы по большим интегральным схемам (БИС) потребовали полного переключения Староса и Берга на эти проекты, а вся полнота полномочий была передана мне и моим коллегам – заместителям Главного конструктора Жукову, Кузнецову, Панкину и Никитину. За собой Старос оставил единственное – подставлять свою шею под удары, которые порой сыпались на нас в процессе работы. По мелочи такая возможность ему предоставлялась довольно часто, несмотря на наши усилия взять максимум ответственности на себя. Это касалось взаимоотношений с заказчиком, Минсудпромом и его предприятиями. Но на уровне ЦК КПСС мы уже прикрыть шефа не могли, как бы ни надували щёки.
Именно в здании ЦК и произошло событие, о котором я обещал рассказать в главе «Подводный интеллект»: как же нас «взяли в оборот».
Торжественная порка в ЦК
Нас вызвали на специально назначенное совещание в Оборонный отдел ЦК КПСС, вызвали персонально двух человек, Староса и меня. В моей жизни это был первый и, к счастью, последний случай порки на таком высоком уровне, поэтому запомнил я всё подробно.
Совещание проходило в малом конференц-зале Оборонного отдела. За столом президиума сидело только два человека – заведующие двумя подотделами – по судостроению и по электронной промышленности. Судостроителя я знал только по фамилии, так как обычно эти посты занимали люди, ранее работавшие в соответствующем министерстве, а мы с Судпромом работали уже не один год. Это был Игорь Владимирович Коксанов, будущий Министр Судостроительной промышленности. А вот электронщика я знал отлично. Это был Игорь Николаевич Букреев. Всего лет пять тому назад Старос пригласил его на работу в качестве директора одного из институтов Научного Центра, и мы проводили с ним официальное собеседование в кабинете Староса в Ленинграде (где потом был стенд Главного конструктора «Узла»), как бы принимали вступительный экзамен. Потом мы неоднократно встречались с ним как с директором института, потом я защищал кандидатскую диссертацию в Учёном Совете его института, где он председательствовал, словом, мы неплохо знали друг друга. Впрочем, это не имело никакого значения, мы оба исполняли свои роли по стандартному сценарию, и теперь наступила его очередь принимать у меня экзамен.
Читать дальше