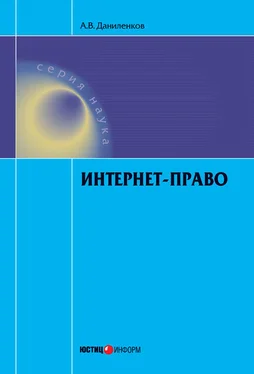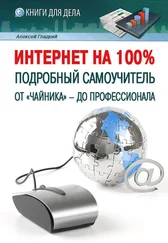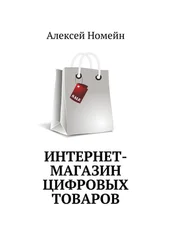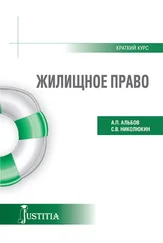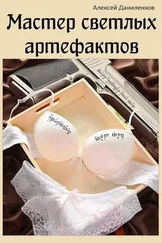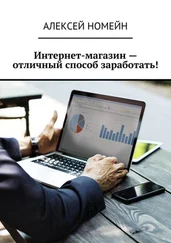В частности, абсолютно неоправданным представляется огульное включение в содержание ИП норм различной отраслевой принадлежности лишь ipso facto прямой или косвенной связи их с отношениями в сети Интернет. При этом апологеты искусственного конструирования отраслей и подотраслей права методом широкого охвата забывают, что только предметная однородность и методологическая уникальность регулирования определенной совокупности правовых норм могут стать надлежащими основаниями для их соответствующей отраслевой идентификации. В противном случае, ИП превратится в этакого неуемного монстра современного правопорядка, который постепенно регулятивно поглотит и подчинит себе практически всю палитру нормативного многообразия и юридико-фактических связей и отношений на основании лишь их присутствия в виртуальной среде, т. е. исключительно на основании внешне-формальных признаков, характеризующих скорее технологический уровень реализации общественных отношений, нежели их правовую природу и сущность.
В этом плане, нельзя согласиться с мнением И.М. Рассолова, который полагает, что «в интернет-праве просматривается некое единство предметов регулирования, касающихся правоотношений, связанных с Интернетом», выделяя «нормы, которые по своей первичной юридической природе являются нормами гражданского, административного, уголовного права» автор заключает, что «узловым вопросом регулирования правоотношений здесь будет выступать само киберпространство, правовые связи субъектов по поводу движения потоков информации по каналам связи. Представим себе, что в киберпространстве отсутствует сама сеть Интернет, тогда не будет и киберпространства. В этом случае не будет существовать и интернет-права». Таким образом, во-первых, странным образом, для целей обоснования комплексности правового института приводится в качестве аргумента множественность предметов регулирования. Формулировка «единство предметов регулирования» вообще не выдерживает никакой критики, поскольку в таком случае оказывается, что, например, можно моделировать правовые институты в отношении любой совокупности норм, предметно объединенных в одном нормативном акте – ведь почти всегда в развернутом акте законодательства (за исключением, пожалуй, акта кодифицированного законодательства, по общему правилу) можно найти нормы разной отраслевой принадлежности. Во-вторых, кибер-пространство по смыслу цитируемого высказывания рассматривается не как правовая среда, испытывающая упорядочивающее нормативное воздействие со стороны уполномоченных нормоустановительных органов, а как системообразующий фактор и организационное условие, обусловливающие их деятельность. Даже учитывая тот факт, что в интернет-праве значительная роль в числе источников права отводится обычным нормам, тем не менее, отводить правовому регулированию вторичную или третичную роль фиксатора обычаев делового оборота и деловых обыкновений, фактически сложившихся во «всемирной паутине» было бы чересчур опрометчиво и некорректно. А именно такой вывод напрашивается, если рассматривать кибер-пространство как первоисточник, единственную форму и некую замкнутую систему объективации ИП, как это пытается делать И.М. Рассолов.
2.2. Источники интернет-права
В числе источников ИП можно назвать (в порядке убывания юридической силы за исключением заключаемых между субъектами ИП сделок, которые стоят особняком и их значение подчиняется общим правилам нормы ст. 422 ГК РФ «Договор и закон» и общим принципам диспозитивности, свободы договора и автономии воли участников гражданско-правовых отношений (п. п. 1–2 ст. 1 ГК РФ)) следующие правоформы:
1) КонституцияРФ (глава 2 «Права и свободы человека и гражданина», включая прежде всего: п. 1 ст. 24 (право на тайну личной и частной жизни – соотносимо с ИП-принципом приватности); ст. 29 (право на свободу мысли, слова и свободу выражения); п. 1 ст. 32 (право участия в управлении делами государства – в контексте отраслевого ИП-принципа многостороннего партнерства); ст. 34 (право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности); ст. 35 (право частной собственности); ст. 44 (свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания или так называемые «академические свободы»); п. 3 ст. 55 (исключительно законодательная (ФЗ) форма ограничения прав и свобод соразмерно и сообразно указанным в конституционном положении целям (защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства)).
Читать дальше