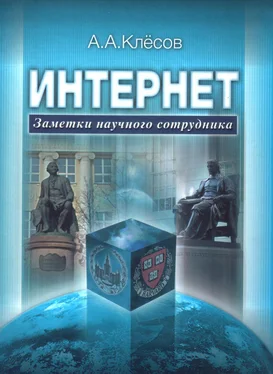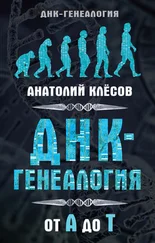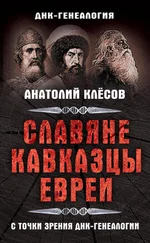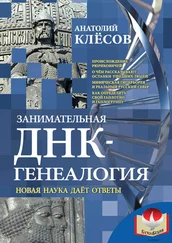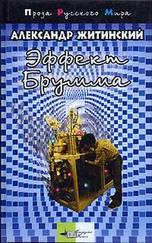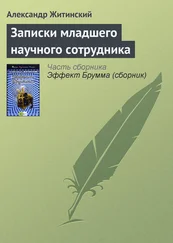Когда бумагу делали в добрые старые времена, еще лет пятьдесят назад и раньше, ее делали из настоящей, «девственной» бумажной пульпы, получаемой химической варкой древесины. Мелких волокон было мало, и в отход уходило только процентов пять бумажной массы. Потом в дело пошла бумажная макулатура, иной раз битая-перебитая, и мелкого волокна в отходы стало уходить до четверти всей пульпы. Четверть всего производства бумаги – в реку! И не только целлюлозного волокна, но вместе с ней и минералов – карбоната кальция, или, проще, толченого мела, и алюмосиликатов, добавляемых в бумагу для белизны и прочности, – до половины от веса бумажной массы. А бумажных фабрик в Северной Америке около четырехсот. Вот и набегают те самые почти десять миллионов тонн мелковолокнистых бумажно-минеральных отходов в год. В Европе фабрик почти столько же.
Понятно, что в реке эти отходы не оставляют, иначе бы рек не осталось. Волокно вылавливают, используя специальную технологию, и прессуют, отжимая воду. Сырая мелкобумажная масса имеет вид волокнистого мата. Эту массу вываливают на грузовики и вывозят с фабрики. Много и ежедневно. Пути всего два – сжигание (incineration) и захоронение (landfilling). Одно другого хуже. Никто не хочет иметь около своего места проживания ни одного ни другого. Активисты борются, а грузовики продолжают вывозить эти отходы с каждой бумажной фабрики – много и ежедневно. Забегая вперед, скажу, что в тот день, когда я впоследствии посетил крупную бумажную фабрику компании International Paper в городке Jay штата Мейн, из ворот фабрики – в один день! – выехало 313 (триста тринадцать!) двадцатитонных грузовиков, загруженных сырыми мелковолокнистыми бумажными отходами. Выехали, философски говоря, в никуда. Сжигать и хоронить. Дорогое удовольствие для фабрики.
Короче, передо мной была поставлена задача – найти этому добру применение. И не просто применение, а такое, чтобы компания делала на этом хорошие деньги.
Задача осложнялась тем, что за нее в мире брались многие, но ни у кого пока не получилось. Материал представляет собой тесное переплетение волокна и минеральных частиц. Разделить их не удается, по крайней мере без немалых денежных затрат. А речь шла о сотнях и тысячах тонн за раз. Дело в том, что тех, кого могла заинтересовать целлюлоза, не устраивали практически неотделяемые минералы. А тем, кого могли бы заинтересовать минералы, не нужна была целлюлоза, да еще и малоценная, коротковолокнистая. Тупик.
Как бы смешно это ни казалось, надежда, по мнению президента новой компании, была на меня. Для начала мне надо было подумать, сделать свои предложения, выступить перед руководством новой компании и пройти соответствующий конкурс. Другими словами, как это здесь называют, пройти интервью.
Я загорелся. Не часто в жизни выпадают вот такие задачки. И вообще, разработать концепцию, соответствующие подходы и реализовать их в качестве управляющего компании по исследованиям и разработкам – это не хухры-мухры. Это будет посильнее кропания статей в Гарварде. Тем более что их уже накропано мной столько, что давно стало рутиной, совершенно не вызывающей прежнего энтузиазма. Ну, на самом деле не кропать, конечно. В каждую статью вкладываешь душу, работаешь с ней, как с малым дитем, пока не заживет отдельно своей самостоятельной жизнью. Но все равно, масштаб не тот. А тут буквально глобальная значимость.
Я согласился попробовать. Попытка – не пытка. Тем более ничем не рисковал, поскольку в Гарварде об этом объявлять пока не собирался. А биотехнология целлюлозы – мой конек еще по работе в Союзе. Засел за литературу по промышленным разработкам, и голова заработала, как новая. Дата интервью была назначена на следующий месяц, в пятницу.
Недели через три я созрел. Доклад с несколькими десятками слайдов содержал перечисление примерно сотни продуктов, которые можно было получить из мелковолокнистых бумажных отходов, конкретные пути их получения и соответствующие экономические выкладки. Я вошел в перманентное состояние эйфории, заранее предвкушая триумф.
Интервью проходило в роскошном здании компании, возвышающемся на скале над 128-й дорогой, опоясывающей Бостон. Оттуда, из окружения огромных валунов и острых скал, открывался замечательный вид на лесные озера. Это тоже вдохновляло. Интервью продолжалось пять часов. Пять часов эйфории, как и предполагалось. Аудитория, человек пятнадцать, состояла исключительно из инженеров, совершенно не имеющих понятия ни о химии, ни о биотехнологии. Для них все было откровением. Даже ферментный препарат, который я для наглядного показа принес в килограммовом пластиковом пакете, вызвал у них изумление и восторг. Судя по комментариям, они, похоже, не ожидали, что фермент – это сухой порошок, и полагали увидеть нечто живое и шевелящееся. Моя сотня продуктов и пути их получения шли чуть ли не под аплодисменты. Столь благодарную аудиторию я раньше встречал только среди школьников да начальников главков в Академии народного хозяйства в Москве. В академической аудитории принят холодноватый, чуть скептический тон. Мы, мол, сами с усами. Настроение там обычно меняется лишь при ответах на вопросы, которые – вопросы-ответы – мне обычно напоминают матч ватерполистов: сверху все как положено, а под водой – рубятся ногами будь здоров. Но это так, к слову.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу