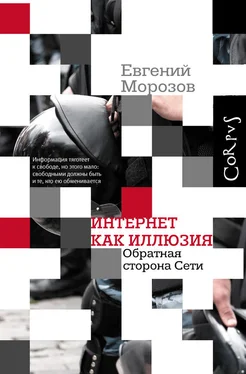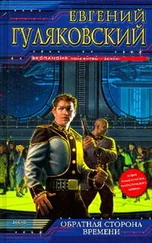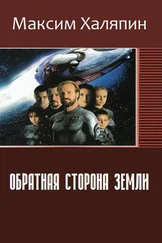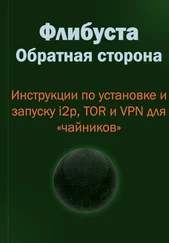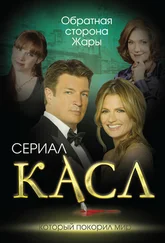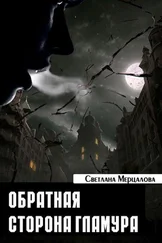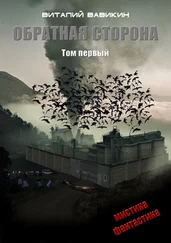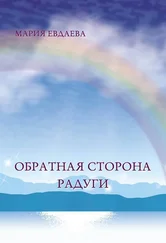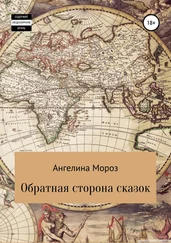Моя критика “Фейсбука” и “Твиттера” гораздо глубже. Я считаю, что цифровую политическую деятельность не следует оценивать только по эффективности решения задач, которые она сама себе ставит. Такая деятельность оказывает экологический эффект на породившую ее политическую культуру, и поэтому необходимо оценивать ее полезность, исходя из общих целей и ориентации этой культуры. Простой пример: железная дорога может быть чрезвычайно эффективным средством транспортировки людей из точки А в точку Б, однако есть места (например, очаровательная французская или итальянская глубинка), где шум, разветвленная промышленная инфраструктура и суета, которые неизбежно сопутствуют железнодорожному сообщению, могут быть нежелательны, и гораздо лучше бы там ходить пешком, ездить на машине или вовсе на лошади. Делать в этом случае упор на быстроту или низкую стоимость поездки по железной дороге – значит совершенно не обращать внимания на местные условия.
Признавая, что “Фейсбук” и “Твиттер” способны творить чудеса, когда речь идет о сборе денег или распространения информации, я все же думаю, что наша политическая жизнь не ограничивается только этим: есть и другие цели, нужды и ценности. Проще говоря, чтобы точно определить влияние египетских сетевых активистов на развитие демократии в стране, не стоит обольщаться числом манифестантов, требующих отставки Мубарака. Стоит также узнать, смогут ли сетевые структуры, возникшие из технополитики, противостоять экстремистам или сторонникам Мубарака после отставки президента, когда политическая борьба переместится с улиц на избирательные участки.
Я не вижу ничего дурного в том, что состоявшиеся политические группы пользуются интернетом для распространения своих взглядов. Меня беспокоит появление совершенно новых децентрализованных, лишенных лидера структур, которые пользуются выгодами интернета для того, чтобы мобилизовать сторонников – и всерьез считают, что для выхода на политическую арену нет нужды стремиться к централизации, иерархии и конкурентоспособности. (Показательно, что Ваиль Гоним, лицо египетской “революции ‘Фейсбука’”, предпочел учредить НКО и бороться с нищетой силами техники, а не политическую партию, чтобы бороться с бывалыми политиками.) Я придаю “Фейсбуку” большее значение, чем большинство киберутопистов. “Цифровая” политическая деятельность вполне может трансформироваться в полноценную политическую культуру. Но это не обязательно к лучшему, если мы стремимся к устойчивой, долгосрочной демократии, а не просто к кратковременной мобилизации сил. Успехи сетевых активистов в числовом выражении (численность антиправительственных групп в “Фейсбуке”, собранные суммы, опубликованные сообщения) самоценны только в интернетоцентрической Вселенной. Признаюсь, я старомоден. По-моему, единственный показатель, который имеет значение для демократической политики, – способность взять власть в свои руки и удерживать ее ненасильственными методами.
Сумеет ли не имеющая лидера “партия ‘Фейсбука’” успешно справляться с практическими задачами после свержения диктаторов? У меня на этот счет есть сомнения: я сдержанно отношусь к политической жизни и считаю, что она несовместима с децентрализацией; к тому же моя биография несколько отличается от биографий некоторых моих критиков. Я считаю, что революции в Египте и Тунисе продолжаются – они не закончились в момент отстранения диктаторов от власти. Конечно, если выбирать между политикой без лидеров и авторитарной политикой в духе Мубарака, я предпочту первую – уже потому, что опасения по ее поводу могут и не сбыться. Но это не значит, что идея децентрализованной политики – политики без лидеров – должна стать новым эталоном нашей общественной жизни. Как бы то ни было, те, кто думает о демократических преобразованиях в долгосрочной перспективе, имеют привилегию формировать свои политические движения так, как считают нужным. Я по-прежнему уверен, что опора на децентрализованную модель “Ваиль Гоним/‘Фейсбук’”, которую мы наблюдали в Египте, в долгосрочной перспективе может оказаться катастрофической.
Прочие заслуживающие рассмотрения замечания по поводу моей книги можно обобщить так:
1. Действительно ли киберутопизм и интернетоцентризм настолько широко распространены – особенно среди видных экспертов по технологиям, – как я это изображаю?
2. Действительно ли авторитарные правители настолько сообразительные, а западные – настолько недалекие, как я описываю? И почему я уделяю все внимание правительствам, а не “хактивистам” или, например, неправительственным организациям?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу