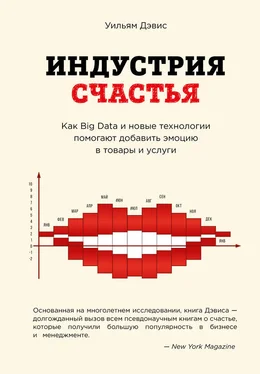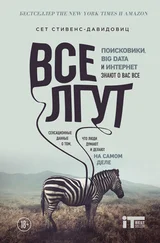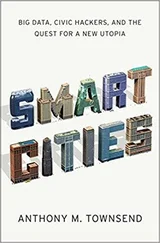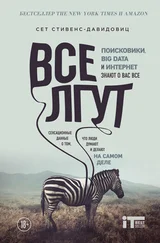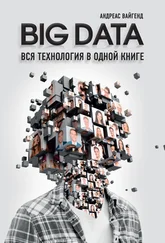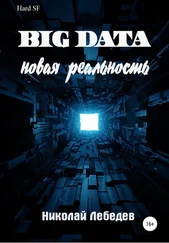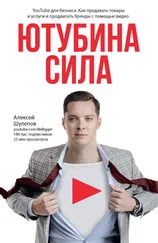1 ...6 7 8 10 11 12 ...112 Стоит нам согласиться с тем, что в основе всех положительных и негативных эмоций и действий лежит единственное, конечное и физическое ощущение, и мы должны признать, что виды этого ощущения отличаются друг от друга только по количественным показателям. Бентам никогда не проводил никакого научного исследования по данному вопросу, но предложил психологическую модель, показывающую, каким образом удовольствие может различаться в количественном плане. В своей наиболее известной работе на эту тему «Введение в основания нравственности и законодательства» он предлагал семь видов удовольствия, большая часть из которых действительно соотносилась с количественными показателями [27]. Продолжительность удовольствия – довольно очевидная количественная категория. Уверенность в будущем удовольствии – нечто, сравнимое с сегодняшним математическим моделированием риска. Число людей, затронутых определенным действием, – еще один пример количественного показателя.
Однако главной научной количественной категорией, на которой зиждилась вся теория Бентама, была «интенсивность». Как ученый, юрист, судья или политик должны узнать, насколько интенсивно чье-то удовольствие или чье-то страдание? Конечно, можно воспользоваться собственным опытом, однако это едва ли научный подход. Или же можно попросить людей рассказать об их ощущениях своими словами. Но не вернулся бы в таком случае утилитаризм в «Королевство кривых зеркал», которым является философский язык, в тиранию звуков, которыми мы пытаемся объяснить, что значит быть человеком? Измерение интенсивности различных видов удовольствия и боли было технической задачей, и от ее выполнения зависело, будет ли проект Бентама иметь успех или потерпит неудачу.
Как измерить?
XVIII век – это время великих изобретений в области измерительных инструментов. Термометр был изобретен в 1724 году, секстант (измеряющий высоту любых видимых объектов, например, звезд) в 1757-м, а морской хронометр – в 1761 году. Введение новой метрической системы было одним из первых достижений французских революционеров в 1790-х годах. Тогда же появился и оригинальный платиновый метр, знаменитый архивный метр, который потом был помещен в Национальный архив в Париже.
Потребность в надежной стандартизированной системе измерений сыграла злую шутку с Просвещением, чей расцвет пришелся на первые годы карьеры Бентама. В 1784 году Иммануил Кант писал: «Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого» [28]. В отличие от своих предшественников, предоставлявших религии и власти право решать, что является правдой и ложью, что считать верным, а что – неверным, зрелые граждане эпохи Просвещения полагались в этих вопросах только на свое собственное суждение. По мнению Канта, девизом Просвещения было sapere aude – «дерзай знать». Критичный разум человека стал единственным авторитетным барометром правды. Однако именно поэтому было крайне важно добиться использования одинаковой системы измерений, иначе всей теории угрожала перспектива краха в релятивистском водовороте субъективных мнений.
Бентам хотел добиться аналогичного научного скептического взгляда на работу политики, системы наказания и закона. Вместо того чтобы призывать уверовать всем сердцем в справедливость и общечеловеческие ценности, Бентам предлагал выяснить, что же делает людей счастливыми, и одинаково обращаться с чувствами каждого человека. Он точно знал, как задать вопрос с научной точки зрения: больше или меньше удовольствия дают политика, законодательство и система наказания обществу в целом?
Однако какой измерительный инструмент позволял ответить на этот вопрос? Конечно, можно тонко, как Бентам, чувствовать страдания других, но без стандарта для сравнения различных видов удовольствия и страданий утилитаризм превращается в игру в догадки. Кроме того, очевидно, что сама природа приятных и болезненных ощущений субъективна. Следовательно, поиск «измерителя счастья» сопряжен с большими трудностями.
Несмотря на то что Бентам всерьез переживал за жизнеспособность своего политического проекта, он уделял на удивление мало внимания данной проблеме. Он называл принцип величайшего счастья в политике всего лишь принципом, который, честно говоря, невозможно сделать частью количественных показателей. Но если мы посмотрим на призыв Бентама к эмпирической реальности, который проходит красной линией через всю его психологию, а также обратим внимание на его едкие замечания относительно всех форм философской абстракции, то мы поймем, что намерение этого человека перестроить политику и право по техническим принципам измерения и вычисления было крайне серьезным. Если бы счастье являлось единственным человеческим благом, о котором можно рассуждать с научной точки зрения, то было бы странным не пытаться достичь его с помощью науки. И, следовательно, мы возвращаемся к проблеме: каким образом можно измерить интенсивность приятного или неприятного чувства? Каким образом утилитаризм работает в этом случае, как можно измерить счастье?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу