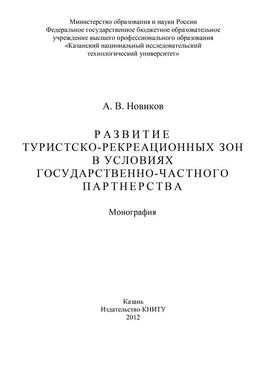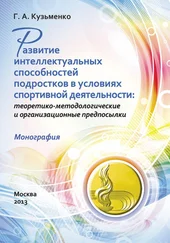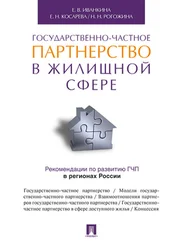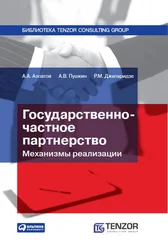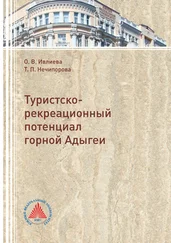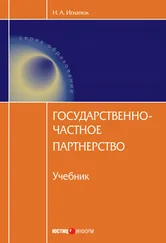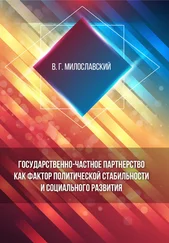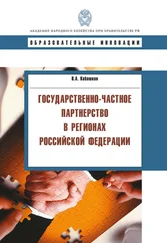Белл. Постиндустриальное общество Д. Белл определяет как стадию исторического процесса, сменяющую собой индустриальную стадию развития, «как общество, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного производства товаров к производству услуг, проведению исследований, организации системы образования и повышению качества жизни; в котором класс технических специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение нововведений… все в большей степени стало зависеть от достижений теоретического знания… Постиндустриальное общество… предполагает возникновение нового класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов» [47]. Концепцию постиндустриального общества разделяют французский социолог А. Турен и американский футуролог Г. Кан. Убежденным апологетом информационного общества (супериндустриализма) является известный американский социолог и футуролог А. Тоффлер. Американский социолог и политик З. Бжезинский оперировал термином «технотронное общество», делая акцент на роли научно-технического прогресса в преодолении противоречий капиталистического общества.
По мнению А.И. Трейвиша и А.В. Курасова, «постиндустриальная эпоха совпала с новой волной глобализации, снижения роли государств и их границ в мировой экономике, которой правит транснациональный капитал. Тут явно помогла информатизация, облегчая оперативное управление бизнесом, рассеянным по свету» [73].
Характеризуя наиболее существенные черты постиндустриального общества, следует отметить, что главными векторами трансформации в эпоху постиндустриального развития общества выступают:
– переориентация экономики от товаропроизводства к сервису (то, что Ж. Фурастье обозначает как развитие «цивилизации услуг»);
– доминирование наукоемких отраслей промышленности;
– радикальное смещение акцентов в социальной структуре общества: классовая дифференциация уступает место дифференциации профессиональной; основное социальное противоречие конституируется не как конфликт между трудом и капиталом, но как конфликт между некомпетентностью и профессионализмом;
– радикальная перестройка институциональной организации общества: если для традиционного общества доминирующими институтами выступали армия и церковь, а для индустриального общества – фирма и корпорация, то применительно к постиндустриальному обществу такую приоритетную роль играет университет как социальный институт, в недрах которого возникает и в структурах которого артикулируется знание как базисный феномен постиндустриализма (Д. Белл);
– реорганизация культурной сферы, внешне формальной стороной которой выступает ее компьютеризация, а внутренне содержательной – императивная ориентация на приоритеты интеллектуализма и соответствующее профилирование на организацию себя в качестве индустрии знания [48].
Перечисленные составляющие обеспечивают такой тип развития общества, при котором это развитие является естественным процессом, основанным на безграничности и самовоспроизводимости знаний. Материальный фактор при этом имеет вторичное значение. Основным товаром становятся услуги, информация и знания, количество и качество которых обеспечивают модернизацию экономики и технологический рывок любого государства без значительного отвлечения экономических ресурсов.
В этом состоит принципиальное отличие постиндустриального общества от индустриального. Последнему свойствен мобилизационный тип экономики, предполагающий использование дополнительных ресурсов и не создающий условия для саморазвития системы в силу естественной ограниченности любых природных и человеческих ресурсов.
Безусловно, история знает немало примеров «догоняющего» развития, когда используются механизмы мобилизации экономики. Как указывает В.Л. Иноземцев: «…на протяжении многих столетий государства, движимые волей социальных реформаторов, осуществляли смелые прорывы, достигая лидирующих позиций и удерживая их долгие годы. Голландия XVI века, Англия XVII, Германия XIX, Россия петровской эпохи, СССР в 20-30-е годы, Япония после окончания Второй мировой войны – вот далеко не полный перечень примеров успешного «догоняющего» развития, позволившего этим странам не только проделать за десятилетия путь, на который у других уходили столетия, но и оказаться в авангарде мирового хозяйственного прогресса, закрепить доминирующее положение в своем регионе. Однако попытки так называемых новых индустриальных стран достичь уровня развития постиндустриальных государств оказались тщетными, лучшим подтверждением чему стал «азиатский» кризис 1997 года, в полной мере продемонстрировавший уязвимость современных модернизаций» [67].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу