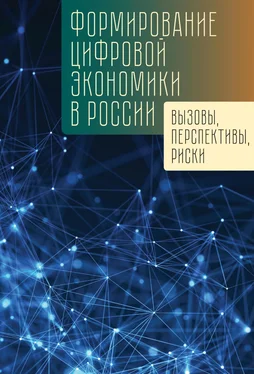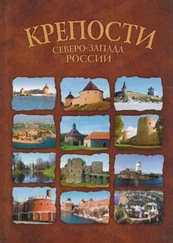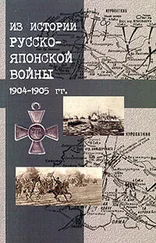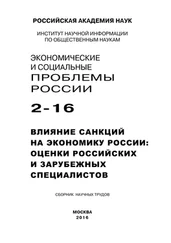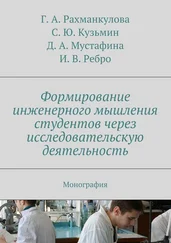Расстановку сил на общемировом фоне процессов цифровизации можно проследить, исходя из Мирового рейтинга цифровой конкурентоспособности (World Digital Competitiveness Ranking), составляемого ежегодно швейцарским Международным институтом управления и развития в Лозанне (International Institute for Management Development, IMD). Данный рейтинг 2019 г. рассчитывался для 63 стран мира на основе анализа 51 показателя, учитывающего уровень готовности стран к цифровой трансформации, состояние регуляторной среды, инвестиции в НИОКР и образование, потенциал цифровых технологий, капитализацию IТ-отрасли и т.д.
Если говорить о лидерах, то в последние три года устойчивые позиции в рейтинге занимают 5 стран – США, Сингапур, Швеция Дания, Швейцария (См. табл. 1.3). Улучшили свои позиции Нидерланды, продвинувшись в 2019 г. на 9-е место с 6-го в предыдущем году. Десятка лучших стран пополнилась также двумя азиатскими странами – Гонконгом и Южной Кореей. Хотя и не вошел в группу лидеров, но существенно улучшил свои позиции в рейтинге цифровой конкурентоспособности Китай, переместившийся за год с 30 позиции на 22 благодаря наращиванию научно-технологического потенциала.
Таблица 1.3. Позиции стран-лидеров, а также России, Китая и Казахстана в глобальном рейтинге цифровой конкурентоспособности за 2019 г. (Digital Competitiveness Ranking 2019)
* В скобках 2017 г.
Источник: Digital Competitiveness Ranking 2019. www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019.
Россия на этом фоне выглядит более скромно. Расположившись между Чехией и Саудовской Аравией, она занимает 38 позицию, однако по сравнению с предыдущим годом она сумела повысить свой рейтинг на две позиции. Сдерживающим фактором для России является, прежде всего, отставание в уровне квалификации человеческих ресурсов (несовершенство системы подготовки исследовательских, инженерно-технических кадров и IT-специалистов), недостаточный уровень инвестирования как в сферу НИОКР, так и в развитие информационно-телекоммуникационного сектора.
По оценкам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2017 г. вклад сектора ИКТ в ВВП России составлял 3,6%, притом что для обеспечения цифровизации других секторов он должен расти темпами, опережающими рост экономики в целом. Предполагается, что к 2030 г. его вклад может достигнуть 4,6% ВВП 33 33 Дранев Ю.Я., Кучин И.И., Фадеев М.А. Вклад цифровизации в рост российской экономики. issek.hse.ru/data/2018/07/04/1152915836/NTI_N_91_04072018.pdf.
. Данные оценки демонстрируют, что цифровизация положительно влияет на эффективность обрабатывающих отраслей (в наибольшей степени – химической промышленности и машиностроения), финансового, транспортного, строительного комплексов и т.п. Косвенный эффект от цифровизации через прирост эффективности экономики оценивается вчетверо выше, чем прямое влияние ИКТ на экономический рост 34 34 Белоусов Д.Р . Цифровизация Российской экономики – от тактических задач к стратегической повестке // Экономическое возрождение России. 2019. №2(60). С. 47.
. Таким образом, превращаясь в ключевой фактор экономического роста, суммарно цифровизация способна обеспечить к 2030 г. около 30–50% прироста ВВП.
Высокая значимость косвенных эффектов от цифровизации позволяет высветить важность понимания ключевой задачи цифровой экономики, которая предполагает не просто развитие сектора ИКТ, а модернизацию на базе цифровых технологий широкого круга производств. Сегодня сквозные цифровые технологии, как уже отмечалось, напрямую связывают с четвертой промышленной революцией, процессами «новой индустриализации», которые прежде всего затрагивают процедуры перевода реального сектора экономики на новую технологическую основу. И это не случайно, поскольку именно в данном секторе формируются предпосылки экономического роста.
Однако важно понимать, что для широкомасштабного освоения цифровых технологий должна быть готова сама технологическая база производств. Так, для России сложившаяся в настоящее время ситуация со старением основных фондов в отечественном промышленном комплексе является причиной низкого уровня оптимизации и автоматизации производственных и бизнес-процессов, что, в свою очередь, создает преграды для процессов цифровой трансформации производства. Особенно наглядно это можно проследить на примере выпуска металлорежущих станков с ЧПУ. В 2017 г. их доля составляла всего 8–10% от общего производства металлорежущих станков. По этому показателю Россия серьезно отстает от стран-лидеров: в Японии более 90% станков относятся к данному классу, в Германии и США – более 70%, в Китае – около 30% 35 35 Экономические эффекты от цифровизации и внедрения IoT в машиностроении в России. Аналитический отчет J’son&PartnersConsulting Август, 2018.
.
Читать дальше