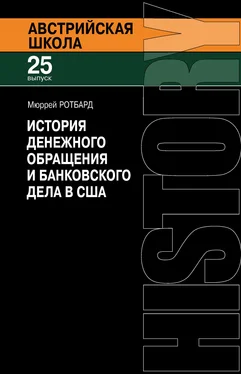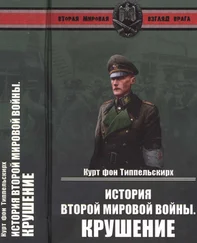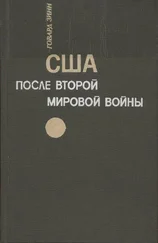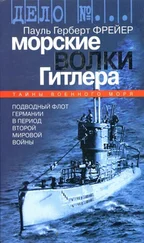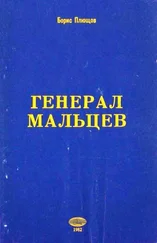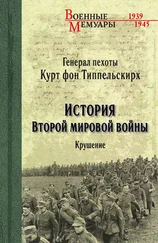Предмет истории, с другой стороны, – «деятельность и ценностные суждения, направляющие деятельность к определенным целям» [10] Мизес, Теория и история, с. 268.
. Это означает, что для истории в отличие от экономической теории действия и ценностные суждения – не конечная данность; по словам Мизеса, они «являются отправным пунктом особого рода рефлексии – специфического понимания исторических наук о человеческой деятельности». Историк, вооруженный методом «специфического понимания», сталкиваясь с «ценностным суждением и вызываемым им действием… может попытаться понять, каким образом они возникли в уме действующего субъекта» [11] Там же, с. 279.
.
Различие между методами исторической науки и экономической теории можно проиллюстрировать следующим примером. Экономист в роли экономиста «объясняет» инфляцию периода войны во Вьетнаме, которая началась в середине 1960-х гг. и достигла кульминации в ходе инфляционного кризиса 1973–1975 гг., указанием на проводившуюся Федеральным резервом политику денежной эмиссии, которая породила и потом поддерживала инфляцию [12] Некоторые экономисты считают границами инфляционного периода 1965 и 1979 г., но нас сейчас точность датировки не интересует (см., напр.: Thomas Mayer, Monetary Policy and the Great Inflation in the United States: The Federal Reserve and the Failure of Macroeconomic Policy (Northampton, Mass.: Edward Edgar, 1990).
. Историк, в том числе историк экономики, должен выявить и оценить относительную значимость тех факторов, которые побуждали различных членов Совета управляющих Федерального резерва (или Комитета по операциям на открытом рынке Федерального резерва) к принятию соответствующего курса действий. Эти факторы включают: идеологию; партийную принадлежность; давление со стороны власть имущих; понимание экономической теории; явно выраженное требование клиентуры Федерального резерва, включая коммерческие банки и крупнейших дилеров рынка облигаций, неформальную власть и влияние председателя Федерального резерва и т. п.
Короче говоря, историк экономики должен выявить мотивы, управлявшие действиями, которые сделали возможным историческое событие. И здесь единственным подходящим инструментом является понимание. Как пишет Мизес:
Предмет понимания – мысленное представление явлений, которые не могут быть полностью объяснены с помощью логики, математики, праксеологии и естественных наук в той мере, в какой они не могут быть раскрыты этими науками [13] Людвиг фон Мизес, Человеческая Деятельность, с. 51.
.
Утверждение, что полное объяснение любого исторического события, в том числе экономического, требует использования метода специфического понимания, не означает умаления важности чистой экономической теории для исторических исследований. На самом деле, как отмечает Мизес, экономическая теория
обеспечивает в своей области законченную интерпретацию зафиксированных прошлых событий и совершенное предвидение результатов, которые следует ожидать от будущих действий определенного рода. Ни интерпретация, ни предвидение ничего не говорят о действительном содержании и качестве ценностных суждений действующих индивидов. И то, и другое предполагает, что индивиды формулируют оценки и действуют, но их теоремы не испытывают влияние и не зависят от конкретных характеристик действий и ценностей [14] Мизес, Теория и история, с. 278.
.
Таким образом, с точки зрения Мизеса, если историк намерен дать полное объяснение отдельного события, он должен представить не только «специфическое понимание» мотивов действия, но и теоремы экономической науки и других «априорных» или неэкспериментальных наук, таких как логика и математика. Он должен также использовать знания, даваемые естественными науками, в том числе прикладными – технологией и терапией [15] Там же, с. 270.
. Знакомство с достижениями всех этих наук необходимо, чтобы иметь возможность правильно установить причинную зависимость между конкретным действием и историческим событием, чтобы проследить его специфические последствия и оценить, насколько успешно были реализованы цели действующего лица.
Например, не будучи знакомым с экономической теоремой, утверждающей, что, при прочих равных, повышение темпа денежной эмиссии ведет к понижению покупательной способности денежной единицы, историк ценовой инфляции периода войны во Вьетнаме может просто проглядеть роль Федерального резерва, и уж тем более его мотивы. Предположим, что он будет сторонником ошибочной доктрины Гэлбрейта об административно назначаемых ценах, порождающих инфляцию издержек [16] John Kenneth Galbraith, The New Industrial State (New York: New
. В этом случае он может, вполне неуместно, сконцентрироваться исключительно на мотивах профсоюзных лидеров, требовавших больших прибавок к заработной плате, и на целях «техноструктур» больших корпораций, пасующих перед этими требованиями и принимающих решение о том, какую часть прироста издержек переложить на потребителей. Таким образом, согласно Мизесу:
Читать дальше