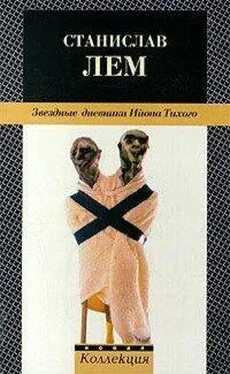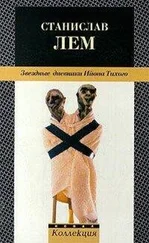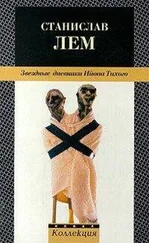Меня подталкивали, я очутился в углу и лишь тут заметил, что похож скорее на четвероногое или шестиногое, нежели на прямоходящее существо. Мне велели опуститься на четвереньки и на все вопросы, буде таковые последуют, отвечать исключительно блеяньем. И тотчас двери задрожали от ударов; братья роботы бросились к каким-то вытащенным на середину трапезной аппаратам, напоминавшим (впрочем, не слишком) швейные машины, и трапезная заполнилась стрекотанием их мнимой работы. По каменным ступеням спустился отряд летучей инспекции. Разглядев инспекторов ближе, я еле устоял на своих четырех ногах. Я не понял, одеты они или нет; каждый выглядел по-особому, не так, как другие.
Кажется, у всех у них были хвосты с волосяным бунчуком на конце, в котором прятался мощный кулак; они носили хвосты, эти были небрежно переброшены через плечо, если можно назвать плечом пузыревидную выпуклость, опоясанную крупными бородавками; посередине этого пузыря виднелась молочно-белая кожа, а на ней появлялись и пропадали цветные стигматы — я не сразу понял, что инспектора общаются между собой не только голосом, но и при помощи картинок и знаков, возникающих на этом телесном экране. Я попробовал пересчитать у них ноги (если это были ноги); у каждого имелось не меньше двух ног, но попадались трех— и даже пятиногие; впрочем, мне показалось, что чем больше ног, тем неудобнее им было ходить. Они обошли весь зал, бегло оглядели монахов, склонившихся над машинами и трудившихся с истовым прилежанием; наконец самый высокий инспектор, с огромным оранжевым жабо вокруг нутрешки, которая надувалась и неярко светилась при каждом его слове, велел какому-то коротышке, всего лишь двуногому и с куцым хвостом — должно быть, писарю, — осмотреть тривутню. Что-то они писали, меряли, ни слова не говоря монахам-роботам, и хотели уже было идти, как вдруг зеленоватый трехногий заметил меня; он потянул за один из моих бахромчатых кантов, и я на всякий случай тихонько заблеял.
— Э-э, да это их старичок гварндлист, ему почти два десятка, оставь его! — бросил высокий, засветившись, а малыш быстро ответил:
— Слушаюсь, Ваша Телость!
С аппаратом, напоминавшим фонарь, они еще раз обошли все углы трапезной, но к колодцу ни один не приблизился. Это все больше напоминало мне формальность, исполняемую спустя рукава. Десять минут спустя их уже не было, машины убрали опять в темный угол, монахи принялись вытаскивать обратно контейнеры, выжимать свои мокрые облачения и развешивать их на веревках, чтобы подсохли; братья библиотекари беспокоились из-за того, что в неплотно закрытый контейнер попала вода и надо было немедленно просушивать папиросной бумагой промокшие страницы инкунабул; а настоятель, то есть отец робот — я не знал уже, как и что о нем думать, — доброжелательно сообщил мне, что все, благодарение Господу, хорошо кончилось, но в дальнейшем я должен быть начеку; тут он показал мне учебник истории, который я уронил в общей неразберихе. В продолжение всей ревизии он сидел на нем сам.
— Значит, иметь книги запрещено? — спросил я.
— Смотря кому! — отвечал настоятель. — Нам — да. А уж такие — особенно! Нас считают устаревшими машинами, ненужными после Первой Биотической Революции; нас терпят, как и все, что спускается в катакомбы, ибо таков обычай — впрочем, негласный, — возникший еще при Глаубоне.
— А что такое «гварндлист»?
Настоятель несколько смутился.
— Это сторонник Бгхиза Гварндля, правившего девяносто лет назад. Мне не слишком удобно говорить об этом… к нам спустился этот несчастный гварндлист, и мы дали ему приют; он всегда сидел в этом углу — прикидывался, бедняга, безумным, поскольку в качестве невменяемого мог говорить что хотел… месяц назад он велел себя заморозить, чтобы дождаться «лучших времен»… вот я и подумал, что в случае чего мы могли бы переодеть тебя… понимаешь?.. Я хотел сказать тебе заранее, но не успел. Я не предполагал, что проверка будет как раз сегодня, они случаются нерегулярно, а в последнее время довольно редко…
Я ровно ничего не понял. Впрочем, только теперь меня ожидали настоящие неприятности, потому что клей, при помощи которого братья деструкцианцы превратили меня в гварндлиста, не желал отпускать, и искусственные пинадла и гнусли вырывали у меня чуть ли не с кусками живого мяса; я обливался потом, стонал и наконец, приведенный в относительно человеческий вид, отправился на отдых. Настоятель впоследствии заводил речь о моем телесном преображении, разумеется обратимом, но, когда мне показали гравюру с моим будущим обликом, я предпочел и дальше оставаться нецензурным; предписанные законом формы были не только чудовищны для землянина, но к тому же в высшей степени неудобны: например, лежать при таком теле было немыслимо и ко сну приходилось вешаться.
Читать дальше