Но, подобно многим городам, влюбленным во все современное, Паташока обладала мощным запасом консерватизма. В то время как Изорддеррекс был городом греха, приобретшим дурную славу благодаря излишествам своих мрачных Кеспаратов, на улицах Паташоки после захода солнца воцарялись мир и покой, а их обитатели лежали в постелях с законными супругами, испытывая очередные модные новинки. Ни в чем эта смесь шика и консерватизма не проявлялась столь явно, как в городской архитектуре. Дома, возведенные в районе умеренного климата, сильно отличавшегося от субтропиков Изорддеррекса, были построены без оглядки на те или иные климатические крайности. Либо они были элегантно классичны и строились затем, чтобы простоять до самого Судного дня, либо своим возникновением были обязаны очередному безумному поветрию и внушали впечатление, что их снесут через неделю-другую.
Но самые необычные зрелища можно было наблюдать на окраинах Паташоки, ибо там был создан второй город, город-паразит, населенный теми жителями Четырех Доминионов, которые прибыли сюда, убегая от преследований, и рассматривали Паташоку как место, где свобода мысли и действия еще не превратилась в пустой звук. Вопрос о том, как долго сохранится подобное положение, был главной темой для обсуждения в любой городской компании. Автарх направлял военные силы в те города и государства, которые он и его советники считали очагами революционной мысли. Некоторые из этих городов были сметены с лица земли, другие оказались под властью Изорддеррекса, и все проявления независимой мысли были в них уничтожены. Так, например, университетский городок Хезуар сровняли с землей, а мозги тамошних студентов были в буквальном смысле слова вычерпаны из их черепов и свалены в кучи на улицах. Обитатели целой провинции Аззимульто были скошены болезнью, которую, по слухам, принесли в этот край агенты Автарха. Сведения о безумных жестокостях поступали из стольких источников, что люди едва ли не чувствовали себя пресыщенными при известии о новейших ужасах, до тех пор, конечно, пока кто-нибудь не спрашивал, сколько времени осталось до того часа, когда Автарх обратит свой безжалостный взор на их огромный муравейник. Тогда лица бледнели, и люди начинали шептаться о том, какие планы бегства или защиты разработали они на тот случай, если день этот действительно наступит, и, окидывая взором сбой великолепный город, созданный для того, чтобы простоять до самого Судного дня, думали, сколько еще осталось времени.
Хотя Пай-о-па и описал вкратце те силы, которые населяют Ин Ово, впечатление Миляги от темного, протеического пространства между Доминионами оказалось очень смутным, так как он был поглощен гораздо более интересным для него зрелищем — картиной изменений, которые претерпевали оба путешественника по мере того, как их тела обживались в новых условиях.
Голова его кружилась от нехватки кислорода, и он не мог сказать с уверенностью, происходило ли все это на самом деле или нет. Возможно ли, чтобы тела распускались, как цветы, и семена их внутреннего «я» разлетались в разные стороны, как об этом говорили ему его чувства? И возможно ли, чтобы эти тела были воссозданы вновь к концу путешествия, прибыв в целости и сохранности, несмотря на все перенесенные деформации? Во всяком случае так ему показалось. Мир, который Пай называл Пятым Доминионом, свернулся у них на глазах, и они, словно летящие сны, понеслись в какой-то совершенно иной мир. Как только он увидел свет, Миляга упал на колени на твердую почву, с благодарностью вдыхая воздух того Доминиона, в котором они оказались.
— Совсем неплохо, — услышал он голос Пая. — У нас вышло, Миляга! Был такой момент, когда мне показалось, что у нас не получится, но все обошлось!
Миляга поднял голову, когда Пай потянул за соединявший их ремень, чтобы поставить его на ноги.
— Вставай! Вставай! — сказал мистиф. — Не годится начинать путешествие, стоя на коленях.
Миляга увидел, что вокруг — ясный день, а на небе, переливающемся, как зелено-золотой павлиний хвост, ни единого облачка. Не было видно ни солнца, ни луны, но сам воздух казался светящимся, и в этом свете Миляга впервые увидел Пая со времени их последней встречи в огне. Возможно, в память о тех, кого он потерял, мистиф до сих пор не снял с себя одежду, которая была на нем в ту ночь, несмотря на то что вся она обгорела и была покрыта кровавыми пятнами. Но он смыл грязь с лица, и теперь его кожа сияла в потоке ясного света.
Читать дальше
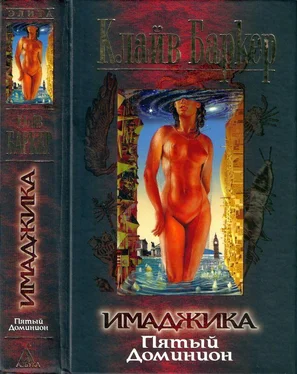

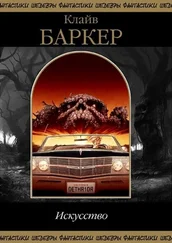
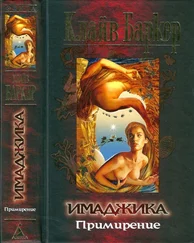

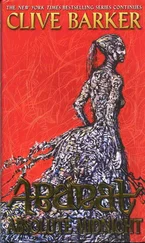

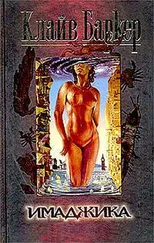
![Клайв Баркер - Книги крови. I–III [сборник litres]](/books/395030/klajv-barker-knigi-krovi-i-iii-sbornik-litres-thumb.webp)

