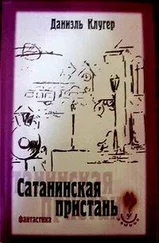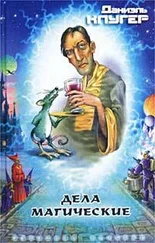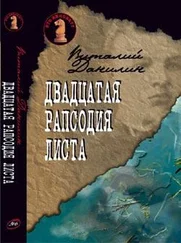Велвл Байер остановился в корчме Мойше-Сверчка, выполнявшую в Яворицах роль постоялого двора. Корчмарь ни о чем приезжего не расспрашивал, показал просторную угловую комнату с двумя большими окнами во втором этаже и назвал цену, показавшуюся Байеру смехотворно низкой. За полтинник в день Байер договорился и о жилье, и о столе — в первую очередь потому, что за обедами надеялся что-нибудь разузнать о судьбе некоторых ровесников, которых помнил с юности. Собственно, и одноглазого корчмаря он вспомнил — правда, в давние уже времена, когда Виктор-Велвл учился в хедере, у маленького Мойше были целы оба глаза.
Первые дни художник просто бродил по окрестностям, узнавая и не узнавая родные места. Раскланивался с местными жителями, большинство из которых смотрели на него с некоторым подозрением, а порою и опаской.
Однажды он пришел на кладбище. Случилось это на третий день пребывания в Яворицах. У надгробия с именами родителей он стоял долго. Сарра-Шейна и Аарон-Аврум Байеры похоронены были рядом, под общей гранитной плитой, за общей низкой оградой чугунного литья.
Виктор стоял, склонив голову, и прислушивался к собственным ощущениям. Лица родителей скрывались глубоко в памяти, настолько глубоко, что видел он лишь неясные тени, зыбкие, текучие силуэты — как если бы Виктор стоял на берегу реку и сквозь толщу воды, замутненной илом, пытался рассмотреть лежащие на дне камни.
Нет, не шевельнулось ничего в его душе — ни от надгробья с родными именами, ни от старого родительского дома на Бондарной. Дом этот, который Виктор-Велвл разыскал без особого труда, как будто не изменился за прошедшие годы — только стал ниже. В доме жили другие люди, не родственники и даже не знакомые. Велвл был единственным ребенком в семье. Когда Сарра-Шейна умерла от тифа, а спустя всего лишь месяц последовал за ней убитый горем муж, дом перешел к общине, которая, в свою очередь, продала его большому и шумному семейству Лейзера Бершацкого, перебравшегося в эти края примерно тогда же.
К концу первой недели пребывания в Яворицах московский художник окончательно убедился в том, что семнадцатилетний Велвл, бежавший из родительского дома, чтобы стать великим художником, исчез окончательно и бесповоротно и что Виктор Байер ничего общего не имел с тем еврейским мальчиком, поздним ребенком, донельзя избалованным родителями.
И от того ему стало вдруг легче. Отправляясь сюда из Москвы, Байер более всего боялся почувствовать себя вернувшимся . Что означало это понятие для него, он и сам толком не знал.
Может быть, возгласы старых знакомых — «Ба, реб Велвл! Сколько лет, сколько зим… Жаль, родители не дождались, но как бы они порадовались! Каким важным и богатым господином стали вы, реб Велвл. А меня вы не узнаете? Мы вместе учились в хедере».
Может быть, причудливая смесь запахов детства, от которой на глаза наворачиваются слезы.
Может быть, рябь, которая нарушает покой памяти.
В любом случае, это понятие включало в себя чувство вины.
И вот сейчас, после посещения некоторых уголков, связанных с его прошлым, Виктор понял, что никакого возвращения не было. Он понял, что приехал сюда всего лишь на этюды, а вовсе не по какой-то непостижимой прихоти судьбы. А коли так — следовало обдумать будущие работы и заняться делом. Праздность, к которой Виктор никогда не был склонен, уже начала изрядно его раздражать. Словом, отныне он рано утром, прихватив с собой этюдник, отправлялся бродить по окрестностям Явориц в поисках подходящей натуры. Вскоре просторная комната стала напоминать его квартиру в Москве — обилием набросков, этюдов, акварелей и тому подобного.
Несколько раз он посетил и кладбище — уже в качестве просто художника, писавшего этот живописный уголок, стену бет-тохора, впритык к которой располагались несколько могил — самых старых, относящихся, насколько удалось определить Байеру, к семнадцатому столетию.
Здесь с ним произошел однажды странный случай. Присев на деревянную скамью рядом с поросшей мохом стеной, Виктор-Велвл рассеянным взглядом окинул окружавший его пятачок. Пятачок этот напоминал крохотную площадь, в центре которой был установлен длинный каменный стол.
Неожиданно художнику показалось, будто полуденное солнце, висевшее большим ярким шаром прямо перед ним, беззвучно взорвалось, заполнив слепящим золотом весь небосклон, — и вновь сжалось до прежних размеров. Мгновенная пульсация ударила по глазам так, что Виктор крепко зажмурился, но тут же вновь открыл глаза. Слезы, задрожавшие на ресницах, помешали ему сразу увидеть невысокого человека, неторопливо направлявшегося к его скамье. Человек облачен был в старые, с бахромой, брюки, длинный, столь же потрепанный сюртук. Ноги он передвигал, почти не отрывая их от земли, и потому за облезшими его башмаками вились клубы белесой пыли, словно волны за лодками. И он мурлыкал старую песенку, которую Байер помнил еще с детства — о нищем скрипаче Янкеле, к несчастью своему влюбившемся в дочку богатого шинкаря:
Читать дальше