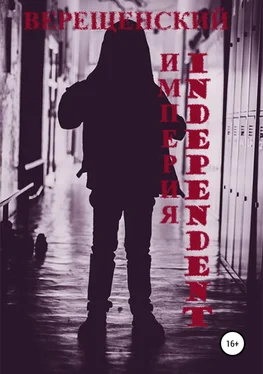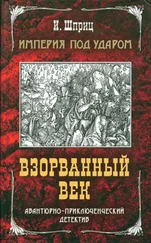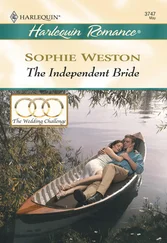Георгий Афанасьевич был стар, глух, подслеповат и плохо передвигался. Вероятно, из милости только его держали даже на этой службе, да ещё – ради экономии на зарплате, к которой он никаких притязаний никогда не имел, как и ко всему прочему. Пару лет назад он пережил инсульт и с тех пор сдал заметно. Ползать по этажам он почти не мог, ходил с палочкой и медленно, а во время ходьбы так и казалось, что его тоненькие, кривые ножки вот-вот подломятся, он упадёт на пол и рассыплется, как спичечный домик – настолько хрупким выглядело его исхудалое, даже иссохшее тело, извечно облачённое в пиджак тёмно-коричневого цвета и такие же брюки. Причём рукава пиджака, как и штанины брюк, были неодинаковой длины – вероятно потому, что после инсульта его слегка перекособочило и он всегда очень сильно опирался на трость с резиновым наконечником, отчего стоптался и продырявился даже он, и трость теперь с жутким скрежетом чиркала металлом по плиточному полу. Чего он, впрочем, всё равно не слышал.
Директор Галина Алексеевна, дама строгая и исполнительная, несколько раз уже задумывалась о его увольнении – по правде говоря, ей было просто страшно, что с ним что-то произойдёт на работе или он всё же завалится где-нибудь – настолько неустойчивой выглядела его высокая фигура. Но это дело она всё откладывала из-за более важных, пока в конце концов не отложила до следующего учебного года. «Лето ещё протянет как-нибудь», – решила она и улетела в отпуск на Мальдивы. А Георгий Афанасьевич покорно обосновался на полтора месяца в своей небольшой каморке, где ввиду старости больше спал, нежели пил чай или смотрел старенький кинескопный телевизор.
Школа представляла собой типовое советское четырёхэтажное здание с двумя двухэтажными пристройками буквой «П» – в одной была столовая-актовый зал, в другой – физкультурный зал. Главный корпус с задней стороны имел балконы – по два балкона на этаж по концам коридоров, имевших в этих местах расширения, называемые рекреационными. Причём балконы второго этажа были полностью зашиты незамысловатой решёткой, а третьего и четвёртого имели лишь обычное ограждение высотой около метра. Балконы всегда были закрыты, однако Пашка разумеется несколько раз курил там, прогуливая физику – выбирался на них через окно из коридора.
Под этими же балконами на первом этаже находились запасные выходы – они вёли сразу на лестницу. Каморка сторожа была справа, ближе к столовой; ключ же у Пашки был от левого входа – очень кстати. Они тихонько прошли через калитку, пересекли школьный двор, где у них проходили линейки и который они убирали во время субботников, и аккуратно повернув ключ в замке стальной двери, оказались на тёмной лестнице. Павел закрыл дверь снова на ключ, а ключи убрал в карман. Хомяк явно струсил:
– Может, не стоит закрывать?
– Я если Афанасич вздумает обход сделать?
– Слушай… Паш… вот что: забирай себе мою кепку, а я лучше пойду…
Паша посмотрел на него почти с отвращением:
– Да ты, смотрю, не только Хомяк, ты ещё и баба!
Хомяк стойко снёс оскорбление. Павел же вернул ему кепку, отпер дверь и сказал:
– Вали. Только в сентябре тебе лучше в школу не приходить, имей в виду.
Как бы ни был велик страх перед неизвестностью, а сохранение собственного достоинства чаще всего выходит на первый план. Так, по крайней мере, происходит в детстве. Если же вы сохранили это чувство и во взрослом возрасте, то тут впору посетить психолога. Хомяк же, в силу своих детских лет, при упоминании о сентябре струхнул ещё больше.
– Ну… а что я должен сделать?
– Это правильное решение, – Павел снова закрыл дверь. – Ничего особенного. Я хочу попугать старика. Белый, ты кстати с нами?
– Я с вами! Я точно с вами! – откликнулся Белка; под новыми впечатлениями активность его чуть уменьшилась, и он уже не подпрыгивал на месте, хотя и вытянулся весь в струну от напряжения.
– Только предупреждаю: об этом, конечно, никому ни слова. Иначе урою обоих.
– Да это понятно… – ответил Белка так, словно его спросили, сколько будет дважды два. Хомяк только сглотнул.
– Тогда пошли. – И они осторожно двинулись в тёмный холл в направлении гардероба.
Спят стулья и парты, доски и указки. Учительский стол медленно покрывается пылью, и безразлично смотрят со стены на пустой класс математики Лейбниц в компании Гаусса и вечно хмурого Лобачевского. Когда-то здесь царили шум и гам, повелительный голос учителя или весёлый детский крик разносился по коридорам, сотни ног за день пробегали вверх и вниз по лестницам, топтали подвытертый линолеум и скользили по плитке в туалетах; теперь все двери закрыты, вода в санузлах отключена, звонки отключены тоже, а все цветы из классов выставлены на подоконники в коридоры, чтобы сторож их поливал – это тоже было его негласной обязанностью. Особенно он ненавидел кабинет биологии, где развели почти оранжерею и цветы жили там всё время, поскольку вытаскивать огромные кадки с пальмами никто не собирался, и ещё потому, что был он на четвёртом этаже, куда как минимум пару раз в неделю Георгию Афанасьевичу приходилось таскать свои корявые ноги и где бутафорский скелет в углу насмешливо поглядывал на него пустыми глазницами. Так проходило каждое лето в школе – тихо, пыльно и с оттенком мистики для искушенных умов.
Читать дальше