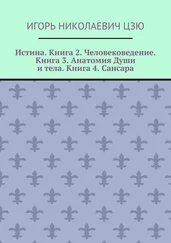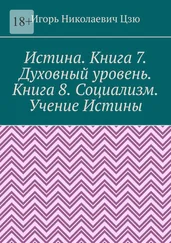– Что ты делаешь в этой стране?
– Не в этой стране я делаю. Мне вообще все страны – по барабану.
Это я научил её идиотским идиомам.
Она говорит на ломаном русском, но мне, как ломанному русскому всё легко понятно. Я люблю её. Она… Она какая-то неземная, что ли. Весёлая.
Как больно солнце жжёт глаза. И вот блеснуло. На далёком холме луч, отражённый от радиаторной решётки, ударил сквозь окно, разлился по стенам, затопил будку. Едут. По местам!
– Андрей, твой банк тебя не забудет.
Сессиль – у кнопки УЗП (Устройства заграждения переезда), мы – по обочинам дороги. Часы на моей руке, суки, так громко начинают тикать, что отвлекают; автомат – такой удобный и послушный, надёжный, как друг.
Почему – как? Почему – как? Тик-так, тик-так, тик-так…. Бля…
Они с ходу решили проскочить переезд. Колёса большие, непробиваемые. Что им рельсы? Что им шпалы?
Сессиль, между прочим, кандидат математических наук, даже чего-то там читала у себя в Сорбонне. Тютелька в тютельку поднялись крышки, прямоугольные рамы на шарнирных опорах. Фургон, споткнувшись, кувырнулся через них, скорость обиженно тащила его по асфальту, обдирая краску с бортов и вереща.
Затихло. Поверженный мамонт лежит на боку, мы с Андреем, осторожно подходим. Зачем-то Сессиль выскочила из будки. Смеётся.
Если живые там внутри, вряд ли они откроют, для убедительности мы и притащили пару канистр с бензином. Я стараюсь держать в зоне обзора дверь фургона и Сессиль, бегущую к нам. Она что-то радостно кричит по-французски, я не понимаю. В машине тихо.
– Они живы? – спрашивает Андрей. Я пожимаю плечами. За тонированными бронированными стеклами ничего не видно.
Андрей стучит прикладом по борту фургона.
– Поезд дальше не идёт. Просьба освободить вагоны. – дурачится он.
Подбежала Сессиль, обнимает меня левой рукой, целует. Ствол её пистолета нечаянно мне прямо в живот упёрся, не нажми на курок, любимая.
Фургон молчит.
– Ну, что, будем резать? – Андрей.
– Я принесу, – отвечаю. Автоген у будки. Целую Сессиль, нежно отстраняю и иду.
Иду, блядь! Один шаг, второй… Жара. Мне как-то нехорошо, не физически: мышцы – словно на совесть скрученные жгуты, тело лёгкое и автомат – как спичечный коробок в руке. Но блевать тянет. Не желудком, а мозгом. Что-то не так. Двадцатый шаг, тридцатый… Я их не считаю, в голове включился независимый счётчик. Хлопок. Ещё один сразу. Как в воде, в вязком воздухе я оборачиваюсь. Я не слышал их голосов. Сессиль! Она уронила свой пистолет, держась за живот, медленно, очень медленно оседает. Я даже успел заметить быстро спрятавшийся чёрный кусочек жала в бойнице двери фургона.
– Су-ука-а! – бросив автомат, бегу к любимой.
Боже! Какое огромное пятно на твоей рубашке. У Сессиль слёзы в глазах.
– Больно. Очень больно, – говорит она.
Я оттаскиваю её к задним колёсам, куда подлое жало не дотянется.
– Игорь…
Я целую её, моё лицо становится мокрым от её слёз. Сжимаю её в объятиях, хочу вобрать всю её, маленькую, хрупкую в себя. Как много крови. Боже, как много крови!
– Je ne veux pas mourir…
– Милая, любимая…
– Je suis tres mal…
– Подожди… Подожди секунду…
Я вскакиваю. Чёрт! Где этот чёртов автомат? Андрей в нескольких шагах лежит от нас. Глаза его открыты, а над ними глубокая бордовая клякса. Он смотрит в небо, он всегда теперь будет смотреть туда. Его автомат я беру, весь рожок по фургону. Пули, визжа и искрясь разлетаются во все стороны. Бью прикладом – мне бы танк!
– Сессиль!
– Je voulais te dire que je t’aime.
– Я люблю тебя, Си. Люблю тебя…
Эта мразь, или сколько вас там, не вылезла из фургона. Я принёс обе канистры с бензином, обильно полил монстра, поджёг ублюдков, подобрал свой автомат и сел напротив ждать.
Один мальчик нашёл на улице часы. С большим серебристым циферблатом, на чёрном кожаном ремешке, в хорошем рабочем состоянии. А своих часов у него никогда не было. А его друг, у которого тоже не было часов и который ничего не нашёл, сказал ему, что часы надо вернуть тому, кто их потерял. Мальчик посмотрел по сторонам, но на улице уже никого не было, и вернуть находку было некому. А друг сказал ему, чтобы он ни в коем случае не надевал чужие часы на свою руку. А то будет несчастье. И они разошлись по домам.
Только мальчик не поверил своему другу, а часы были такими красивыми, что он не удержался и надел их на руку. И сначала ничего не случилось. И мальчик ходил весь вечер в часах и смотрел, сколько времени. А маме с папой он ничего не сказал потому, что боялся, что они будут ругаться и часы отнимут. А когда настало время ложиться спать, оказалось, что часы с руки никак не снимаются. Ремешок не хотел расстёгиваться, а резать его ножом было жалко. И мальчик опять ничего не сказал маме с папой потому, что боялся, что они заругаются ещё больше. Он просто лёг спать в часах. И сначала ничего не случилось.
Читать дальше

![Макс Фрай - Одна и та же книга [сборник]](/books/25818/maks-fraj-odna-i-ta-zhe-kniga-sbornik-thumb.webp)



![Игорь Иванов - Внешняя политика России в эпоху глобализации [Статьи и выступления]](/books/424087/igor-ivanov-vneshnyaya-politika-rossii-v-epohu-globa-thumb.webp)