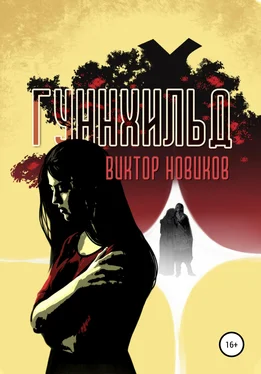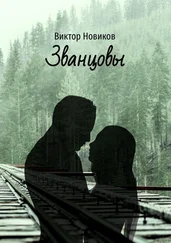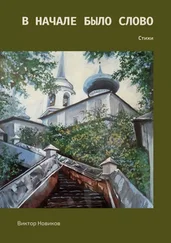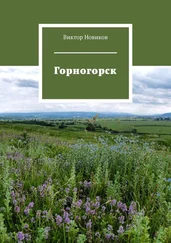Оказывается, с Трюггви идёт Горм, слуга из Волчьего Гнезда. Это его медвежья куртка на Трюггви.
Горм что-то негромко говорит, покачивая пальцами перед собой. Трюггви дуется, судя по плечам и затылку, но в бело-чёрный мир прозрачными водяными пятнами возвращаются краски. Вместе с равновесием в его юной душе…
Торвальд сморгнул скопившуюся влагу и поднял левую руку к левому глазу. Увидеть ладонь он смог, лишь когда сдвинул её к самому кончику носа… Наваждение кончилось. Да, всё же нечасто. Отвыкает он видеть мир с левой стороной.
Трюггви и Горма впереди не было, как и следов от них. Дорога была другой, изгибалась по-иному, а из кустов по её бокам выросли настоящие деревья.
* * *
Вокруг чернеют ёлки. За их нижними голыми лапами просматривается ярко-жёлтый березняк, а в нём – кровавые глазки бузины. Ельник глухой, невысокий, в полтора-два человеческих роста. Не пройти, не расцарапавшись.
Но с каждой зимой ему приходится отходить от усадьбы Волчье Гнездо.
На новые вырубки тянутся огородные плетни из ивовых прутьев, обмазанные смесью глины, песка и щебня с морского берега. Прямо у елей вырастают склады для шкур, дровяники, ближе к жилью – для еды. Новые овчарни, козульники, хлева для коров (лошадей держат в прибрежном посёлке), птичники для кур, уток, гусей, хижины для слуг. Всё больше и больше работающих тут решают перебраться из посёлка к хозяевам и старым слугам семьи.
Дом конунга в середине предгорной пустоши виднеется отовсюду. Восемь зим назад, вступив в права хозяина, Харальд Рыжий Волк следующим днём велел перестроить старый.
«Хлев Бешеного», – сказал он тогда, выругавшись.
После дом растянулся ввысь и вширь, на старые огороды, на часть сада и прежнюю мусорную яму. Тёсаные, плотно пригнанные брёвна золотятся до сих пор, не потускнев за суровые сезоны и не потрескавшись – Харальд отбирал их с друзьями-корабельщиками, которые знали древесину да толк в строительской стезе. Наверное, поэтому дом походил на корабль, зависший на вздыбленной волне. Из-за его красоты мало кто вспоминал хлев Бешеного, что полвека был неотделим от здешней пустоши.
Крышу дома покрывают переплетённые слои соломы – в середине каждого лета поверх прошлогоднего слоя кладётся свежевысушенный. Главный вход, как положено предками, смотрит на благостный солнечный юг.
Из дымохода вьётся струйка, а вокруг мшистых валунов на пустоши журчит ручей. Около огородов он замедляется. Камни со дна выковыряны, кое-где перекинуты мостки. Вдоль берега тянется плетень, за которым по рядам кочанов ползает слуга с корзинкой. Как только ручей выбегает за пределы усадьбы, камни на дне обнажаются, и среди них бурлят омуты, ледяные даже летом. Там, стоя в воде по щиколотку, женщины полощут одежду.
Они распрямляются, когда видят на тропинке незнакомца в войлочной шапке и кожаном плаще.
Торвальд улыбается всем их приветливым и неприветливым взглядам. Сбрасывает с плеча мешок и поднимает руку с веткой бузины.
Только сейчас он вспомнил, что отломал её на развилке.
– Меня зовут Торвальд Одноглазый, – говорит он в возникшем пытливом молчании. – Конунг Харальд пригласил меня на пир.
– Провидец! – вскрикивают прачки и кидаются к пришельцу.
Шлёпаются на камни скрученные тряпки, вертятся в водовороте чьи-то штаны… Стирать остаётся только одна. Прачки засыпают Торвальда вопросами, трогают его прославленный плащ, а она взглянула лишь раз, наморщив лоб.
Торвальд отвечает невпопад и украдкой следит за ней поверх затылков в белых платках.
Платье у неё шерстяное, старое, уже до неуловимого окраса полинявшее от солнца, пота и частых стирок. Поверх платья надета безрукавка до колен из жёлтой овчины, без завязок и нараспашку. Она трёт кулаками брошенную кем-то рубаху, и её коса шевелится меж лопаток. Выбившиеся вихры налипли на лоб, на щёки, и кудрявятся, как волокна вокруг старого каната…
Лицо маленькое, черты не проглядываются из-за обильных веснушек, сливающихся в рябое пятно.
Она отжимает постиранное и собирает своё в корзину. Вскидывает напоследок круглые блёклые глаза.
Если б меньше солнце жарило её лицо, если бы чаще она носила новые платья, мыла, распускала и расчёсывала косу. Если б… Она давно, похоже, не была тем радостным источником лучащегося сияния.
Она поднялась и горделиво пошла к дому. Будто лохматая коса была короной из золота и драгоценных камней, а она сама – королевой крови, не иначе.
Читать дальше