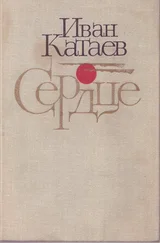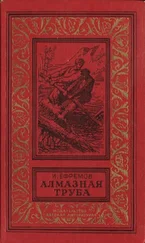Рассказывал Чортяка о себе и своей жизни охотно, образно, с дрожью в голосе, отчаянно жестикулируя. Самогон у него был с собой всегда, в маленькой бутылочке, четвертинке. Отпивая мутную жидкость маленькими глотками, к закату Чортяка прилично пьянел, сползал со стульчика в траву и засыпал. Уходя домой на закате, я, чертыхаясь, сматывал его рыболовные снасти, и небрежно кидал их рядом с храпящим стариком. Каждый раз я был уверен, что завтра, придя на речку, застану Чортяку спящим на траве. Однако, каждое утро он бодро приветствовал меня, сидя перед уже закинутыми удочками, улыбаясь беззубым ртом и помахивая новой четвертинкой.
Все рассказы Чортяки сводились к его участию в войне. Он подвирал в деталях, часто повторяясь, и я слушал вполуха, что жутко его расстраивало. Я начал подозревать, что рассказывает он истории по большей части выдуманные, так как, со временем, несостыковок в его военных байках стало неприлично много. Я спросил у бабушки, не врет ли он, но та отмахнулась, говорить о Чортяке ей почему-то совсем не хотелось.
– Знаешь, что,– старик отхлебнул самогона и икнул,– вот ты мне, как сын военного, скажи, почему твой батя не женился?
Женщины волновали Чортяку. В его рассказах всегда было место любовной линии, себя он представлял то героем-любовником, уставшим от женского внимания, то повесой, не знающим отказа.
– Из-за табе,– он закурил,– штоб ты, значит, без мачехи рос. У меня, вона, детей не было никогда, а если б и были, в жизнь к ним чужую тётку не привел бы.
– Женится отец,– сказал я с деланным вздохом,– с мачехой жить придётся.
– Опаньки,– удивился Чортяка,– скока же твому бате годочков-то?
– Тридцать четыре, – ответил я,– или тридцать пять.
– У,– засмеялся старик,– это старый совсем, женихаться-то. Я вот женился рано, и двадцати еще не было. А что невеста? Молодая?
– Да так, – пожал плечами я,– не старая.
– Эх,– с досадой сказал Чортяка,– женится на молодых, здоровых нужно. Чтоб кровь бурлила, а мозги ещё на место не встали. Тогда интересно жить будет, и под себя бабу воспитаешь,– он задумался.– Хотя по мне, сколько бабу не *** , все на чужие *** смотрит. Натура у них такая, блядская.
Я поёжился. Мне, московскому мальчику, такие разговоры были неприятны. Чортяка, видя мое смущение, распалялся все больше, поминутно отпивая из горлышка самогон.
– С девками здешними похороводиться тебе никак не выйдет,– заметил он,– а всё потому, что нету их, в городе все. Одни бабки остались, так они и для меня староваты,– хрипло хохотнул старик,– а когда-то по селу не пройти было, чтоб шею не свернуть – всюду девки гарные, одна другой лучше. Хохлушки, они знаешь какие? Как на подбор, сисястые, жопастые, ладные. Норовистые, конечно, но я норовистых люблю, слаще они, как сдадутся,– Чортяка подмигнул мне, допил остатки своего пойла и выкинул бутылку в траву. Он был пьян, но спать не валился, сидел на своем раскладном стульчике, раскачиваясь взад-вперёд.
– Я, – начал он свой рассказ,– женился на вдове. Олесей звали, навроде Алёны по вашему, по-москальски. Дородная была, с грудями такими, шо дух перебивало. Высокая, сильная девка. Мужа ейного в драке зарезали, но она и не любила его, со мной сошлася сразу. А я лесником робил, жил на хуторке, почти что в лесу, значит. Привёл её к себе, а дом-то у меня большой, сам видел, хозяйство завели, значит, всё чин-чинарем, жили неплохо, хоть постарше она меня была, но слушалась во всем, уважала.. Я-то хозяин зажиточный был, хоть и молодой, осталось кой-чего от родителей.. Охотником был ещё хорошим и рыбаком, мяско с рыбкой не переводились на столе.
– Только тут война пришла,– свернул на любимую тему Чортяка. Он был уже мертвецки пьян, его бормотание я различал с трудом, – в армию, значит, собрался было я, тут немцы на наш хутор вышли. Офицеры, молоденькие, всего четверо, да два денщика при них. Чуть не расстреляли меня, по-началу, как на постой встали. Кур всех поели, свиней, все запасы слопали. Ну, ясное дело, солдатня, голодная. Стали, конечно, и к Олесе моей приставать. Я, ясное дело, ей не защитник, куда там супротив шмайсеров.. вот и стали глумиться над нею, фашисты. То один по ляжке погладит, то другой за сиську щипнёт. Шнапсу перепьются и давай к ней лезть, да всё с хохотом своим гавкающим, будь он неладен.
Однажды прям под юбку к ней полезли, я не стерпел, взвился на них. Побили меня, так, что кровью харкал неделю. А Олеську снасильничали, по-очереди. Я как узнал, жизни лишить себя хотел, но слёг в горячке, в бреду, значит, валялся, себя не помнил от горя. А эти ублюдки давай её терзать, каждый день, да ещё всем скопом. Лихо пришлось моей Олесеньке – гордая она была,– старик заплакал. Я замер, слушая такие неожиданные откровения Чортяки.
Читать дальше