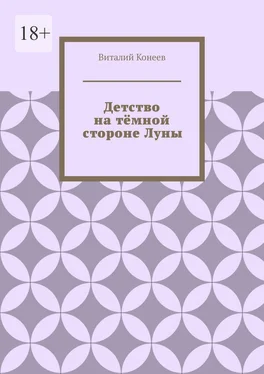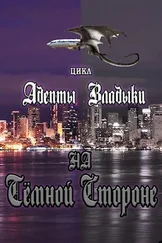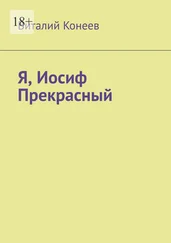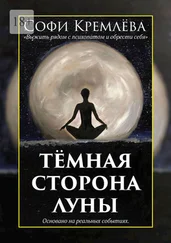Мать положила, закутанную в доху маленькую мою сестру перед ступеньками большого дома, который назывался «Детский сад». И ушла вместе с Матвеем и Колькой, якобы, на работу.
В огромном дворе сидели на земле, ходили, примерно 50 детей. Это был общий для всего райцентра «детский сад». Около кучи песка с лучинками, щепками выли, подражая машинам, два мальчика. Я ходил, стоял, сидел, а потом заглянул за стену домика, куда часто бегали молодые, здоровые девки, бегали из дома. Там был стол. И вокруг него сидели девки и торопливо хлебали суп, ели котлеты, компот, булочки и пирожки. В мою сторону девка махнула ложкой.
– А ну пошёл отсюда!
И я вернулся к крыльцу, где уже обосранная, перепачканная жёлтым дерьмом верещала моя сестра. Она выползла из дохи и шлёпала ладонями по земле. Где-то пронзительно закричала девочка. И тотчас раздался властный голос:
– Скорей принесите мёд! Она дочь начальника!
Девки, одна за другой, перепрыгнули через мою сестру и скрылись в глубине дома. А я стоял на одном месте или ходил по двору, потому что во дворе не было ни лавок, ни табуреток.
Я сел на землю и сидел до обеда. В «детском саду» кормили один раз и всегда одной и той же едой. Мы сели в длинной комнате на лавки, а девки в грязных, белых халатах налили в тарелки по одной поварёшке жидкий кисель без сахара и сунули каждому ребёнку в руку маленький кусочек хлеба. А сестра лежала перед крыльцом до прихода матери и спала.
В детстве и юности я думал, что наша семья ела хлеб, заработанный матерью. И только в 1991 году, просматривая архив колхоза, я понял, что всё зерно получал Матвей. Я понял, что мать купила корову и домик на деньги Матвея.
Зимой они пошли во двор пилить дрова. А я побежал за матерью и встал по другую сторону козлов, чтобы смотреть на неё. На козлах лежало бревно. Мать, угрюмая, протянула руку к ручке пилы и сильно рванула её в бок на голую руку Матвея, что лежала на бревне. Зубья прошли по руке. И Матвей тонко крикнул, а потом чуть присел и сунул окровавленную руку между ног.
Мать дёрнула вверх и вниз головой, хмыкая и криво улыбаясь, и сказала:
– Ты не мужик, а говно.
В домике она взяла грязную половую тряпку, что лежала у входа, засохшую, словно окаменевшую, и бросила её под ноги Матвея.
– На, утрись.
И он прижал не гнущуюся тряпку к своей руке.
Мать любила сидеть весь день на хромоногой кедровой табуретке, широко расставив ноги и оцепенело глядя вниз. Её глаза становились мёртвыми. И я, каждый день, слыша от неё крики: «Ой, умираю! Ой, скоро умру!» боялся, видя её такой, что она могла умереть. Я подходил к ней и толкал её двумя руками. Мать словно просыпалась и сердилась.
– Да чо это за ребёнок такой? Ни минуты спокоя.
Она доставала из кармана куртки или мужского пиджака горсть семечек и начинала щёлкать. Я почему-то всегда подходил к матери с левой стороны, внимательно рассматривал её левую руку. Разгибал её пальцы, толстые и грубые. Они полностью не разгибались. А кожа на руке была покрыта трещинами, в которых была чёрная грязь. Я прижимался щекой к ладони и ощущал, что она была горячей.
Я, конечно, часто видел, как мать обнимала Кольку, хотя он не хотел её объятий, и целовала его в щёку. И я прижимался щекой к ладони матери, к одной, потом – к другой и ждал, и хотел объятий матери. Она равнодушно смотрела на меня и ловко метала из правой руки семечки в рот, и пальцем сбрасывала шелуху с губы.
Матвей ставил капканы в «холодной» комнате и ловил крыс. Их расплодилось много, потому что родители хранили мешки с зерном в той комнате, а крысы его кушали. Матвей, радостно посмеиваясь, аккуратно снимал ножом шкуру с добычи, сушил её на доске над буржуйкой. А потом уносил стопку шкур в заготконтору, получал деньги, покупал пряники и конфеты, которые съедал один.
Я всегда был голодным потому, что родился геперактивным ребёнком.
Когда мать сидела на своей табуретке, я опирался грудью на её колено и, глядя в её лицо, говорил:
– Мам, исть хочу.
– Отстань. Навязался на мою душу.
– Да ты его шугани, – говорили бабы, с которыми мать сводила свои сплетни весь день и до глубокой ночи.
Мать, жестоко битая « в людях», никогда не била ни брата, ни меня. А Матвей, который, как и мать, был недоволен моим громким смехом, игрой, рифмованными стихами, которые я сочинял с трёх лет, пытался ударить меня, чтобы я затих. Мать показывала ему огромный кулак.
– Не смей. Морду-то разобью.
Я с первых лет жизни видел, что моя мать была защитницей, и всегда нарочно путался в её ногах, когда она приходила домой, нарочно заступал ей дорогу, потому что хотел, чтобы она взяла меня на руки. Мать отстраняла меня в сторону и бормотала:
Читать дальше