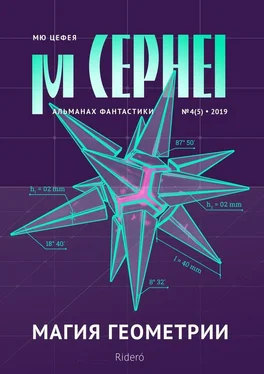Он заглядывает в меня. Перебирает каждую косточку, каждую мысль. Он и есть та темнота под саваном кожи. Он слышит все, знает все, помнит все.
— Как? — шипит Григорий Михайлович.
И что-то большее повторяет этот вопрос уже в моей голове.
КАК?
Боль подрубает ноги, и я валюсь на колени. И вдруг понимаю, что давно бы упал, но лишь сейчас он позволил мне.
Из стекол уходит чернота. Вспыхивает солнце, и небо наливается синевой. Как прежде.
— Как? — звучит спокойный голос Григория Михайловича. — Скажи мне?
Он вновь устраивается в кресле. А я продолжаю полировать пол коленями.
Я бы встал. Черт, я бы встал — это про меня. Вставал после любого удара, утирал с носа кровь и шел дальше.
Но сейчас мир почему-то расплывается сотней черных точек, рябит и теряет цвет. За спиной хлопает дверь, и грубые руки хватают меня за плечи. Я успеваю выдохнуть:
— Нет.
Затем руки утаскивают меня в коридор. В несчастливый конец.
(ки)
Я так скажу. Жизнь умеет шутить по-черному.
У меня всегда была только свобода. Плевать на все прочее — я мог пройти в лунную ночь вдоль морского берега, и никто бы не крикнул: «Стой! Не смей этого делать». Я объездил расколотую Европу и отправился на север с моей девочкой. Я ходил — где хочу и когда хочу. А остальное просто шуршащие чеки и плохая похлебка.
Сперва этот город забрал Диану.
Затем добрался и до моей свободы.
Смешно. Я оценил.
Стены новой камеры были уже не бурыми. Эти выкрасили в тускло-тускло-голубой. Как небо поздним вечером, когда оно вот-вот потухнет и нальется чернотой. Как небо, которое я больше никогда не увижу.
Я всегда говорил старому Борсо, что мне тесно в Мадриде. Кто ж знал, что я однажды окажусь запертым в комнатенке поменьше сарая?!
Удивительно, но здесь мне не снятся сны о бескрайних просторах. Здесь я не размышляю о потерянной жизни. Просто сижу на нарах час за часом, день за днем. Вглядываюсь в стены. Из облупившейся штукатурки можно составить целый мир, если знать как. Чудные звери, монстры или лица, машины, лампы и очертания континентов. Просто всмотрись в этот оплывший узор, и сам все увидишь.
Я жду, когда двери наконец откроются и меня уведут. Будут вызнавать доказательство этой чертовой теоремы. Наверное, это даже хуже, чем торчать здесь. А торчать здесь не самое веселое занятие.
В камеру кто-то заходит, и я поворачиваюсь. Медленно. Стараюсь держать лицо расслабленным, но все же улыбаюсь, когда понимаю, кто это.
— Неужели решил поболтать?
Григорий Михайлович пожимает плечами.
— Мы уже поболтали.
— Тогда что? Человек с ножом, как в той истории с Французом?
И я почти мечтаю о таком исходе.
Но он только скучающе осматривает камеру, а потом говорит:
— Нет.
— Что тогда?
— Ничего. Вы можете идти.
— Я могу идти?
Он кивает.
— Вы свободны. Вы не знаете ответа, а значит, и все вопросы не имеют смысла.
Я думаю ответить колко, но все остроумие исчезает куда-то. Поэтому приходится просто переспросить:
— Я свободен?
— Да, — отвечает Григорий Михайлович, — но лишь от меня.
* * *
Я узнал ответ много позже. Когда покинул Санкт-Петрогрард на поезде. Поезд шел на юг.
Вся эта дьявольщина с теоремой и точками в точках объяснялась крайне просто.
Я не выбрался.
Я несу в сердце кусочек севера с тех пор, как умерла моя Диана. И где бы я ни оказался — все останется по-прежнему. Я был в могиле до того, как увидел Ырху, до того, как попал к шаману, до того, как сел в поезд, и до того, как вышел на ночную улицу.
Мой север страшнее. Север никого не отпускает.
И за полярным кругом или в солнечном Мадриде уже не согреться.
Я все еще в могиле.
Сезон навигации (Дмитрий Сошников)
Звякнул колокольчик, и я наконец позволил себе вывалиться из кенгуриной сумки на теплый пол.
Вообще в любом полете ожидание между приземлением и выгрузкой — самый тяжелый момент. Его не любят пассажиры: это всегда лишние минуты, порой — десятки минут ожидания, когда они уже вроде бы на земле, но в то же время не закончили полет. И люди подгоняют время, как только могут: выстраиваются в очереди, скидывают ручной багаж (иногда кому-нибудь на голову), в нарушение инструкций вызванивают друзей, родственников, таксистов и встречающих сотрудников. В такие минуты они похожи на детей, которые торопят весну, снимая шапки и нося одежду не по погоде.
В конце концов человеческое стадо просачивается сквозь узкие двери на волю: идет к зданиям через телетрапы или увозится автобусами. Из грузовых люков машины-распределители достают багаж, в пассажирские салоны лезут чистильщики, а экипаж, сдав судно, направляется отдыхать и писать рапорты. И лишь когда за людьми закрывается последняя дверь, раздается мелодичная трель колокольчика: рейс закончен, началось техобслуживание. Навигатор может покинуть борт.
Читать дальше