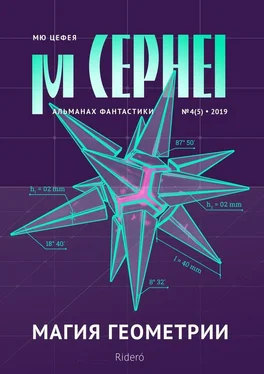— Мы уже здесь. У него.
«У него» Француз произносит почти шепотом. Словно этот «Он» стоит за дверью с пистолетом и ждет, когда пригласят.
— В деревне?
— В Санкт-Петрограрде.
Город обрушивается на меня всей своей неподъемной тяжестью. Чертовски холодное слово. Я ощущаю безысходность, но не как заключенный в тюрьме. Скорее, как моряк в штиль. В бесконечный штиль. Ведь наш корабль не остался без ветра. Нет, его сковали льды. Мы посреди океана.
— Этот юнец? Григорий Михайлович?
— Этот юнец? — Лицо Француза искажает страх. — Он не юнец, маэстро. О нет. Нет, совсем не юнец.
— Ты сказал мне там… Ты сказал — он знал ее. Очень давно он знал Ырху.
Француз тянет с минуту. Напряженно всматривается в темноту. Темнота так или иначе подслушивает, я давно понял это. Француз тоже. Даже если осветить всю комнату, понаставить здесь целое полчище люстр и фонарей — ничего не поможет. В наших телах, под коконом кожи и мяса, за решеткой ребер — всегда будет клубиться темнота.
Поэтому он сдается. Кивает моим словам и осторожно произносит:
— Конечно, знает. А как сын может не знать собственную мать?!
Об этом мы больше не говорим. Мне страшно вспоминать тот океанический холод в глазах Григория Михайловича. Французу просто страшно.
Эта тварь точно пришла из-под воды.
— Если он так ужасен, — наконец бросаю я, — то зачем ты вернулся?
— Да? А я мог не вернуться? Он хочет видеть меня. И он очень хочет видеть вас. Если бы я ослушался…
— Я убил ее?
— О да.
— Я видел там… Я там такое видел.
— Он захочет спросить. Теперь вы в опасности. Вы были там и видели. Возможно, он… Он может…
Француз зажимает рот левой рукой. Правой протягивает мне костяной нож.
— На нем кровь Ырхи, — шепчет он, — теперь его же месть обернется против своего хозяина.
Я хватаю нож и прячу за пазуху. Не знаю, что и как сложится, но заточенный кусок кости в запасе лишним не будет. С ножами вечно такое, они умеют успокаивать.
Я спрашиваю:
— Зачем ты говоришь мне все это?
— Потому что я тоже видел. После вас он пошлет за мной. Он уже не отпустит меня.
Все ясно. Хочет спрятаться за моей спиной. Сальный хлыщ, что с него взять. С другой стороны, мне грех жаловаться — его трусость подарила мне крохотный шанс на жизнь. Неужели я тогда ошибся с быстрыми поросячьими глазками? Что ж, мне не привыкать.
Хватаюсь за края ванны и поднимаю себя. Мимоходом замечаю коросту на костяшках. Левая рука жутко саднит.
На непослушных ногах встаю перед Французом.
— Спасибо.
Я мог бы умереть. Это, конечно, страшно, но иногда у тебя просто не остается сил двигаться дальше. Ты хочешь упасть, но так, чтобы крепко, чтобы насовсем.
Я мог бы умереть, но Григорий Михайлович не обещал мне смерть. Что если я вновь окажусь в том мире? Увижу все эти странные, ужасные вещи. Если опять встречу Диану. Чтобы опять убить.
Нет, вот этого я ему позволить не могу. У меня всегда было в избытке и глупости, и гордости, это точно. Сухие губы трескаются в слабой улыбке. И я говорю себе так: какое же счастье, Шкрипач, что и то и то тебе сегодня пригодилось.
Что такое Теорема Калигулы? — хочу спросить напоследок, но в этот момент со скрипом открывается дверь.
Грязно-бурую темноту наискось срубает свет из коридора.
— Он ждет, — говорит вошедший Комар. С ним еще какие-то парни. У них каменные лица и, я уверен, вместо сердец тоже камни.
Иду навстречу. Похоже, про эту проклятую теорему мне придется узнать уже от него.
Такое счастье, хоть плачь.
И мы бредем по темным коридорам. Здесь сыро, как будто каждая развилка — это бледная кишка. Кажется, сверху что-то давит. Кажется, там бесконечные океанические просторы, и сквозь них черным айсбергом проплывает левиафан.
Жуткое зрелище, но мне больше не страшно. Я представляю в своей голове, как левиафану на таком же черном рояле подыгрывают ноктюрном. И все скатывается в дешевую пьеску.
Мы пришли. Никто не толкает в спину, не сковывает руки. Просто вежливо приглашают.
Я не противлюсь.
Оказываюсь в обыкновенном кабинете. Отполированный стол, парочка красных диванов, медовый коньяк в резном шкафу.
И оконный ряд. За ним седой Санкт-Петрогрард. Все всегда возвращается.
— Присаживайтесь.
Сам Григорий Михайлович, кажется, повзрослел с тех пор, как мы в последний раз виделись. А может, это просто мой взволнованный ум нарисовал ему новый более зловещий образ. Старый Борсо всегда говорил: «Никогда не доверяй трусливому уму, парень, и итальянкам».
Читать дальше