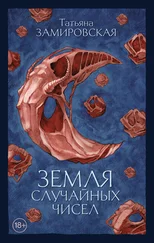Но когда я собрала их всех в один костяной веночек – Ленку, Юльку, Сашку и Вадика – поняла, что от того, сообщу ли я им эту штуку – ничего не изменится ни в мире, ни в том, что миром считает наша Катька, ни даже в том, что этим миром по какой-то причине до настоящего момента считали мы. По сути, тот факт, что ничего не изменится от моего сообщения, и был той самой информацией, которую я собиралась им сообщить. И если об этом знаю я – видимо, об этом знают и остальные.
Как и о том, что нам всем придется теперь хорошо поработать, чтобы остаться существовать в этом новом, довольно неуютном с учетом всей этой информации, мире железного зайчика.
Мне удобнее рассказывать об этом, как о воспоминании, и пусть лучше это будет чужое воспоминание, как бы пересказ. Допустим, подруга юности, предположим, Даша. Что может быть лживого в вездесущести, вездеходности дружественной Даши, бойко бегущей самой узнаваемой, почти заглавной буквой сквозь биографию всякого из нас? Была у вас Даша? Вот и у нас тоже была. Даша-Даша.
Садись, Даша. Терапия не помогает. Мы, предположим, разливаем пьяный грушево-клюквенный компот на скамеечке парка и болтаем; давно не виделись, кому еще расскажешь. Дождя не будет, Даша, автобус не придет.
Дашу беспокоит неприятное воспоминание юности, как бы всю юность ей и отравившее: буквально все, что она может или не может вспомнить, пропитано этим ядом. Даша около полутора лет встречалась с Невицким, допустим, я даже помню этого Невицкого, все-таки одна компания, но дело тут не во мне, я забываю о себе, стоп, меня нет.
Даша ходит к терапевтам и рассказывает каждому про свои отношения с Невицким и, в частности, про Майю. Да, да, разумеется, у каждой молодежной компании есть своя история про девочку, которая закончила как-то особенно плохо (у вас есть такая, правда?), оступилась, сорвалась, попала под стеклянный поезд, уносящий ветер как субстанцию и ценный груз из одного мира в другой, отравилась жидкостью для прочистки канализации, съела иные грибы, упала с лестницы, ступеньки которой уже сотню лет не видели крови (лестницы, как и землетрясения в городах, имеют что-то вроде столетнего индекса крови: если бабушка с третьего этажа не припомнит ни одной случайной смерти в своем подъезде, есть резон осторожнее спускаться, взвалив на спину чугунное коромысло велосипеда, тихо, тихо, тут нет ступеньки – это страшнее всего, смертельный лживый шаг вниз там, где нет спуска, нет пространства, только эта преждевременная, преднамеренная, убивающая твердь). Но с Майей все было не так – она расставалась со своими жертвами молниеносно и навсегда, поэтому, когда все случилось, вокруг нее не было большого количества друзей и знакомых – дружба, как потом выяснилось, Майю не интересовала, пусть и выглядела именно как дружба, чем бы она ни была на самом деле.
Майя досталась Даше в роли приданого, она была приложением к Невицкому – да, разумеется, у каждой молодежной компании бывает такой герой с приложением, идеальной красоты мнимо высокий мальчик с будто намеренно асимметричным, искаженным от некоей вселенской тоски лицом и прилагающейся к нему девочкой-другом, «а это просто моя лучшая подруга», и такие красивые эти его картонные, как будто ножом вырезанные в ящике, полном фиников и клинков, глаза, что потерпим подругу, кто бы она ни была.
Майя была жестоким довесочком – после того, как Даша целовалась с Невицким на открытии выставки С. и М. прямо там в коридоре, на подоконнике, к ней подошли и С., и М., пусть и плоховато ее знавшие, и сразу сказали: расставание с Невицким ты еще хоть как-то переживаешь, но терять Майю тебе будет невыносимо больно, не поддавайся ее обаянию, чем бы оно тебе ни казалось – но это обаяние.
Майя была ужасно необаятельной: сутулая, рыжая, с крашеными в неопрятный вороновый цвет жиденькими волосами до плеч (и уже выбивается асимметричный едкий кошачий пробор, пробел, провал где-то в районе проекции речевого центра Вернике). При ее аномальной, кисейной, водяной худобе она, тем не менее, выглядела немного полной, распухшей, разбухшей, как русалка, – была в ней какая-то водянистая дымная мягкость, словно кости ее были заполнены болотным молоком, а не твердыми текстурами, в ней вообще не было ничего твердого – но вот локти, вот острый крошечный носик, вот безмозглая и жесткая медность звенящих, как полные карманы мелочи, веснушек – все не так, все не складывается в цельный образ. Майя будто состояла из несочетаемых фрагментов – для кого-то она была слишком тощей, кто-то вспоминал ее как «эту мечтательную жирную корову», ее тело плыло и таяло, как облако. Границы соприкосновения Майи с миром были размыты, она во все втекала и вытекала, и не было в этом ни органичности, ни текучести – течение Майи было бурным, неловким, переломанным, как кладбище парикмахерских ножниц, и более несуразного человека представить себе нельзя было, что они в ней находят, нахмурилась Даша, но вот уже все, Майя подошла к Даше и протянула руку, и Даша задохнулась и ничего не нашла. Правда, пространство, в котором она ничего не нашла, оказалось неправдоподобно огромным – словно с Майиным рукопожатием приоткрылась дверь в гигантский, гулкий и исполненный дышащей тягучей пустоты каменный зал: словно находишься в пещере и чреве бесконечного кита одновременно. Кит где-то плещется и резвится, и доступа к этим чертогам радости нет и не будет никогда: ты внутри. Но это была какая-то чертовски приятная внутренность.
Читать дальше
![Татьяна Замировская Земля случайных чисел [сборник litres] обложка книги](/books/407830/tatyana-zamirovskaya-zemlya-sluchajnyh-chisel-sbornik-cover.webp)




![Андрей Круз - Земля лишних. Трилогия [сборник litres]](/books/385142/andrej-kruz-zemlya-lishnih-trilogiya-sbornik-litres-thumb.webp)
![Татьяна Полякова - Детектив весеннего настроения [сборник litres]](/books/401772/tatyana-polyakova-detektiv-vesennego-nastroeniya-sb-thumb.webp)
![Татьяна Пономарева - Трудное время для попугаев [сборник litres]](/books/413312/tatyana-ponomareva-trudnoe-vremya-dlya-popugaev-sbo-thumb.webp)
![Игорь Николаев - Железный ветер. Путь войны. Там, где горит земля [сборник litres]](/books/414568/igor-nikolaev-zheleznyj-veter-put-vojny-tam-gd-thumb.webp)
![Роберт Мур Вильямс - Затерянная земля [сборник litres]](/books/435616/robert-mur-vilyams-zateryannaya-zemlya-sbornik-litre-thumb.webp)
![Сергей Протасов - Цусимские хроники - Мы пришли. Новые земли. Чужие берега [сборник litres]](/books/436040/sergej-protasov-cusimskie-hroniki-my-prishli-novy-thumb.webp)
![Татьяна Замировская - Смерти.net [litres]](/books/437090/tatyana-zamirovskaya-smerti-net-litres-thumb.webp)