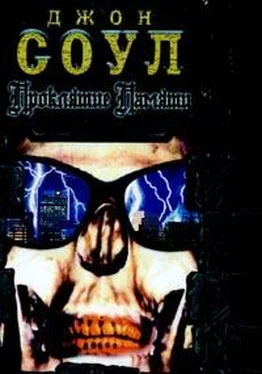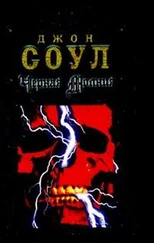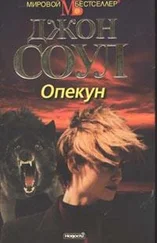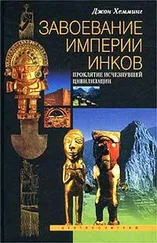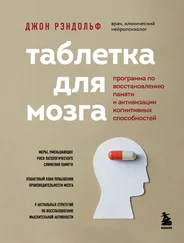У стены стояла одна донья Мария, невидящими глазами глядя в черные зрачки ружей, направленных на нее.
– Это ничего вам не даст, – повторила она слабеющим голосом. – Мой сын вернется и убьет вас.
Она медленно осела на землю, и еще несколько секунд отряд разряжал оставшиеся в магазинах патроны в неподвижное уже тело женщины.
* * *
Было уже за полночь, когда мальчик выбрался из своего укрытия и подошел к воротам гасиенды. Над холмами повисла странная тишина – словно все ночные твари сговорились молчанием почтить память умерших. Часовых во дворе не было. Никто не позаботился накрыть трупы. Отряд давно покинул гасиенду, отправившись на поиски других задержавшихся в своих домах людей, – чтобы поступить с ними так же, как и с семьей дона Роберто.
Совсем низко в ночном небе висела луна, и в ее серебристом свете пурпурные пятна той крови, которая текла и в жилах юноши, превратились в серые потеки на голубовато-белой стене. Бледность смерти, покрывавшая лица его сестер и матери, в лунном свете казалось пеленой неведомого сна. Юноша долго стоял над телами, молясь о душах сестер и родителей, и с последней молитвой глубоко спрятал скорбь.
Теперь он был другим и многое предстояло ему сделать.
Мать он поднял первой, вынес ее тело со двора, отнес на самую вершину холма – где и похоронил, выкопав могилу среди густого кустарника.
Рядом с ней он похоронил и сестер – а потом сидел возле свежих могил, пока край горизонта не порозовел в предвестии скорого рассвета. Он ни о чем не думал – казалось, в сознании его остались лишь ужасы этого дня, перечеркнувшие всю предыдущую жизнь.
Когда первые лучи солнца тронули вершину холма, он поднялся и в последний раз взглянул вниз, на гасиенду, где когда-то был его дом.
Слова матери так же глубоко врезались в его душу, как пули – в стену, около которой она умерла; память о сестрах была столь же яркой, как их кровь на этой стене.
Ничто теперь не сотрет из его памяти эти образы – как ничто не сможет потушить и огонь ненависти е его сердце.
И он никогда не покинет эту деревню; это его дом, его земля...
И всегда теперь ночью будет сниться ему один и тот же сон – и он, весь в холодном поту, будет просыпаться от собственного крика.
Один и тот же сон. Всегда – он на вершине холма, единственный свидетель гибели своих близких; всегда будут звучать в его ушах слова матери, превращаясь в четкое понимание – наступает день, и сделать предстоит немало.
Было ли это? Случилось ли все в точности так, как он видел во сне? Крики, выстрелы, алые пятна на белой стене...
Каждую ночь возвращается к нему этот сон. И наутро он знает, что ему следует делать...
Ла-Палома из тех городков, которым не присущи перемены. Расти он начал еще с тех времен, когда был крохотной деревушкой на холмах Пало Аль-то, но рос медленно, и центром его так и осталась бывшая деревенская площадь с белым зданием старинной испанской миссии. В отличие от других калифорнийских миссий эта, однако, не представляла собой ни исторической, ни культурной ценности – а потому не стала ни памятником, ни музеем. По решению муниципалитета ее переоборудовали в городской клуб, а пристройку, в которой раньше размещалась католическая школа, заняла библиотека.
За миссией располагалось маленькое заброшенное кладбище, за кладбищем – обветшавшие дома, где потомки некогда гордых калифорниос, основавших этот городок, влачили жалкое существование, перебиваясь службой в домах гринго, захвативших в давние времена гасиенды их предков, да по воскресеньям судача между собой по-испански о былых временах.
В паре кварталов от миссии находилась проселочная дорога, обочину которой жители Ла-Паломы гордо именовали главной улицей. Она была украшена треугольным куском земли, посреди которого возвышалось корявое туловище огромного дуба. Говорили, что это странное место и два столетия назад было точно таким – и именно его избрали основатели городка ориентиром, от него разбегались дороги на все четыре стороны света. Переулков и пешеходных дорожек в Ла-Паломе не было – прямые, как лучи, улицы расходились от здания миссии, с незапамятных времен так и оставшейся центром этого городка.
Потому окружавший вековое дерево кусок исторической земли именовался коротко и понятно – Площадью. Сам же дуб, на который не одно поколение ла-паломских мальчишек лазило за желудями, вешало качели, вырезало бесчисленные инициалы – причиняло такие поистине адские муки, каких бы не выдержало ни одно нормальное дерево. В ознаменование его возраста и заслуг дуб был обнесен забором, а кокетливый газончик с посыпанными песком тропинками, словно украденный из какого-нибудь английского парка, в свою очередь окружал забор. Аккуратные таблички рекомендовали горожанам по газону не ходить, пикников на нем не устраивать, бросать мусор исключительно в урны – имевшиеся в избытке и покрашенные в темно-песочный цвет; по мнению муниципалитета, цвет соответствовал испанскому колориту города; главная же табличка содержала исчерпывающую информацию о самом необыкновенном дереве, оно объявлялось самым большим и старым дубом во всей Калифорнии, вследствие чего дотрагиваться до него запрещалось кому-либо, кроме наделенных соответствующими полномочиями представителей Управления городских парков. То обстоятельство, что весь штат Управления состоял из двух трудившихся на общественных началах садовников, мало кого смущало.
Читать дальше