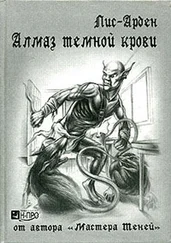Файдиты одержали верх, заплатив десятью жизнями за сотню. Отбитые катары, предназначенные спасительному — и назидательному — костру представляли собой жалкое и жуткое зрелище. Одетые в невозможные лохмотья, измученные, связанные грубыми веревками, они теснились на обочине дороги, почти ничего не понимая. Было их человек двадцать, но добрая половина готовилась отдать души Господу — или кому придется — еще до заката солнца.
— Смотри, Гильем… вот их представление о христианском милосердии… — Огневица подошла к одному из таких пленников, бессильно опустившемуся на землю. Он повернул голову на ее голос, и трубадур ахнул. Когда он последний раз видел это лицо, на нем светились яркие, веселые глаза и оно улыбалось, открыто и ясно. Теперь это было лицо старика, смертельно усталое, почти бессмысленное. Гильем подошел к своему учителю, присел рядом.
— Я и не знал, что вы… — впервые в жизни он не находил слов. Он действительно не знал о тонкостях вероисповедания Аймерика Пегильяна, да и, по правде сказать, это было ему совершенно безразлично; трубадур знал в нем родственную душу, слышал пение тех же струн, что были натянуты и в его сердце.
— Не трудись, добрый человек, — заговорил с трубадуром один из катаров. — Он более ни заговорит, ни запоет. Отцам не по нраву радость жизни, тем более поющая. Язык ему отрезали… а пальцы на допросах переломали, по пальцу за каждого катара, переведенного за горы.
— Куда? — не понимая, переспросил Гильем.
— За горы, в Каталонию… он же трубадуром был, все тропы знал, а верных вроде как своими жогларами водил.
— Гильем!.. подойди. — окликнула трубадура Огневица. — Смотри, какая удача — они весь архив с собой везли… и приговоры, и списки подозреваемых, и — тут она неприятно усмехнулась, повертев в руках пергамент — перечень осведомителей… с указанием кому сколько и за кого причитается. Экие дотошные…
— Приговоры? — Гильем протянул руку — Дай взглянуть.
Огневица молча протянула ему несколько свернутых в трубки пергаментов. Гильем разворачивал их, читал… губы его сжимались все плотнее и совсем побелели, брови сошлись на переносице… На каждом приговоре стояла одна и та же подпись. Та самая, что венчала все протоколы допросов. И приказы о выдаче награды доносчикам.
Огневица заглянула через плечо Гильема.
— Ансельм Торонетский… ишь, как твой собрат разошелся!
В ответ трубадур посмотрел на нее так… словно смертельно раненый, умоляя о пощаде — зная, что ее не будет.
Когда поздней ночью Гильем сидел у костра, рыжеволосая еретичка подсела рядом, протянула свою флягу.
— Смотри-ка ты… темень, хоть глаз коли… и огонь. Ровно в преисподней.
— Ты так говоришь, будто уже побывала там.
— Так оно и есть, брат певец. Побывала. Постояла… только холодно было. Как есть ноги окоченели.
Гильем, догадавшись, о чем вспоминает Огневица, почти поспешно глотнул из фляги и вернул ее хозяйке.
— Огни в воздухе плавали. Факелы. И темнота. Я думала, Господь милосерд, приберет и меня вместе с мужем. Не прибрал. Думала, хоть разума лишит, чтоб не мучалась. Не лишил. Все чувствовала, все понимала — и как Франсуа хрипел в петле, и как ребенок пошел… и как хорошо, когда горячая кровь по ногам застылым льется…
Гильем, не глядя, ощупью нашел флягу, глотнул. Письмецо, недавно вернувшийся с ночной прогулки, беспокойно заклекотал.
— Преисподняя… — Огневица странно, протяжно засмеялась, — Огни и тьма, холод и горячая кровь. Вот только Дьявола не было. Люди и сами справились.
* * *
… Он открывает глаза. Тихо… темно… потрескивают поленья в камине. Это его комната. Все спокойно. Он откидывается было на пышные подушки… и опять вздрагивает.
Садится, накидывает на плечи теплый плащ, привычно крестится, не вкладывая в этот жест особого смысла. Сейчас для него это не более, чем почесывание спины. Оглядывает комнату — на этот раз подозрительно. Все по-прежнему спокойно. И когда он уже собирается вновь улечься под теплое одеяло…
— Добрая ночь, Бернар.
Голос этот, совсем как в прежние, невозвратные времена, глубок и ярок… и весел.
— Рад тебя видеть в добром здравии, дружок… — трубадур улыбается. — Как поживаешь? Не трудно ли на темной дороге?
Не в силах вымолвить ни слова, Бернар с трудом сглотнул. В горле словно камень застыл.
— Я так и знал… — чуть укоризненно сказал Аймерик Пегильян. — Совсем пение забросил. Голос посадил на проповедях своих… Что ж ты, дружок, все уроки мои забыл? Тебе же голос не меньше прежнего нужен, шутка ли, толпу словом держать. А ну, давай-ка вставай, садись к огню поближе — да споем вместе, глядишь, и голос вернется.
Читать дальше