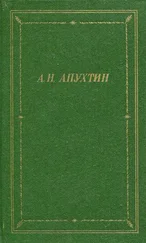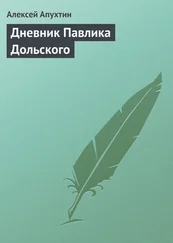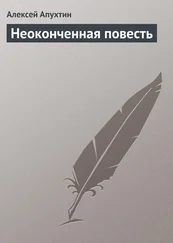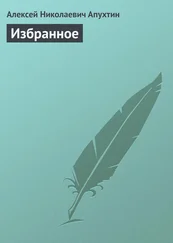– Перестаньте, перестаньте, Иван Ефимыч, будет вам на том свете за язычок ваш… По крайней мере, о нашем дорогом Дмитрии Александровиче вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это был прекрасный человек…
– К чему преувеличивать, генерал? Если мы скажем, что он был любезный и обходительный человек, этого будет совершенно достаточно. Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские любезностью не отличаются. Возьмем, чтобы недалеко ходить, его брата Андрея…
– Ну, об этом я с вами спорить не буду: Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает?
– Важничать ему решительно нечем, но не в этом дело-с. Если такой человек, как князь Андрей Александрыч, терпится в обществе, это доказывает только нашу необыкновенную снисходительность. По-настоящему, такому человеку не следует и руки подавать. Вот что я узнал о нем недавно из самых достоверных источников…
В эту минуту появился мой брат, и оба собеседника бросились к нему с выражением живейшего сочувствия.
Затем робкими шагами вошел мой старый товарищ Миша Звягин. Это был очень добрый и очень замотавшийся человек. В начале октября он приехал ко мне, объяснил мне свое безвыходное положение и попросил у меня на два месяца пять тысяч, которые могли его спасти. После некоторой борьбы я написал ему чек; он предложил мне вексель, но я отвечал, что этого не нужно. Через два месяца он, конечно, уплатить не мог и начал от меня скрываться. Во время моей болезни он несколько раз присылал узнавать о здоровье, но сам не заходил ни разу. Когда он подошел к моему гробу, я прочел в его глазах самые разнообразные чувства: и сожаление, и стыд, и страх, и даже где-то там, в глубине зрачков, – маленькую радость при мысли, что у него одним кредитором стало меньше. Впрочем, поймав себя на этой мысли, он очень ее устыдился и начал усердно молиться. В его сердце происходила борьба. Ему следовало заявить сейчас же о долге, но, с другой стороны, зачем же заявлять, если он не может заплатить! Долг этот он отдаст со временем, а теперь… известно ли кому-нибудь об этом долге, записан ли он мною в какую-нибудь книжку? Нет, необходимо заявить сейчас же.
Миша Звягин с решительным видом подошел к брату и начал расспрашивать его о моей болезни. Брат отвечал неохотно и смотрел в другую сторону: моя смерть давала ему законное право быть невнимательным и надменным.
– Видите ли, князь, – начал, запинаясь, Звягин, – я был должен покойному…
Брат начал прислушиваться и вопросительно посмотрел на него.
– Я хотел сказать, что я слишком обязан покойному Дмитрию Александровичу. Наша долголетняя дружба…
Брат опять отвернулся, и бедный Миша Звягин отошел на прежнее место. Его красные щеки прыгали, глаза беспокойно бегали по зале. Тут, в первый раз после смерти, я пожалел о том, что не могу говорить. Мне так хотелось сказать ему: «Да оставь себе эти пять тысяч, у детей моих и без того денег довольно».
Зала быстро наполнялась. Дамы входили большею частью попарно и становились вдоль стены. Ко мне почти никто не подходил, меня как-то стыдились. Более близкие к нам дамы спрашивали у брата, могут ли они видеть жену; брат с молчаливым поклоном указывал им на двери гостиной. Дамы в минутном раздумье останавливались в дверях, после чего, опустив головы, как-то ныряли в гостиную, словно купальщики, которые после маленького колебания решительно бросаются головой вниз в холодную воду.
К двум часам собрался весь знатный Петербург, так что, будь я тщеславен, вид залы доставил бы мне большое удовольствие. Появились даже такие лица, о приезде которых тихонько докладывали брату, и он ходил встречать на лестницу.
Я всегда с особым умилением слушал панихиду, хотя многое в ней казалось мне непонятным. Особенно всегда смущала меня «жизнь бесконечная»; выражение это на панихиде казалось мне горькой иронией. Теперь все эти слова получали для меня глубокий смысл. Я сам жил этой «бесконечной жизнью», я именно находился в том месте, «иде же несть болезни, печали и воздыхания».
Напротив того, земные, доходившие до меня, воздыхания казались мне чем-то чуждым и непонятным. Когда певчие запели о надгробном рыдании, словно в ответ им раздались сдержанные всхлипывания в разных углах залы. С женой моей сделалось дурно, ее опять увели.
Панихида кончилась. Дьякон густым басом произнес: «Во блаженном успении…», но в это время произошло нечто странное. В зале вдруг потемнело, точно сумерки сразу опустились на землю. Я перестал различать лица, а видел одни черные фигуры. Голос дьякона ослабел и постепенно отдалялся куда-то. Наконец он замолк совсем, свечи потухли, все для меня исчезло. Я сразу перестал видеть и слышать.
Читать дальше