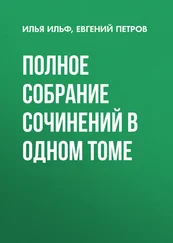Говоря все это сухим, язвительным тоном, антиквар нагнулся достать зеркало с полки, и в тот же миг судорога пробежала по телу Маркхейма, у него затряслись руки и ноги, на лице отразилась буря страстей. Все это прошло так же мгновенно, как и возникло, не оставив после себя и следа, кроме легкой дрожи руки, протянутой за зеркалом.
— Зеркало, — хрипло проговорил он и замолчал, потом повторил более внятно: — Зеркало? На Рождество? Да можно ли?
— А что тут такого? — воскликнул антиквар. — Почему не подарить зеркало?
Маркхейм устремил на него какой-то особенный взгляд.
— Вы спрашиваете почему? — сказал он. — Да возьмите поглядитесь в это зеркало сами. Ну что? Приятно? Ведь нет. И никому не может быть приятно.
Щуплый антиквар отскочил назад, когда Маркхейм внезапно подался к нему с зеркалом, но, убедившись, что ничто более страшное ему не угрожает, сказал с улыбкой:
— Ваша будущая супруга, сэр, видимо, не так уж хороша собой.
— Я пришел к вам, — сказал Маркхейм, — за рождественским подарком, а вы… вы предлагаете мне вот это проклятое напоминание, напоминание о прожитых годах, прегрешениях и безумствах. Ручное зеркало — это же ручная совесть! Вы это нарочно? С задней мыслью? Признайтесь! Для вас же будет лучше, если признаетесь чистосердечно. И расскажете о себе. Есть у меня подозрение, что на самом-то деле вы человек сердобольный.
Антиквар пристально посмотрел на своего собеседника. Как ни странно, Маркхейм не смеялся; в лице его словно бы промелькнула яркая искорка надежды, но уж никак не насмешки.
— Куда вы клоните? — спросил антиквар.
— Неужто не сердобольный? — хмуро проговорил Маркхейм. — Не сердоболен, не благочестив, не щепетилен, никого не любит, никем не любим. Рука, загребающая деньги, кубышка, где они хранятся. И это все? Боже правый, неужели это все?
— Сейчас я вам скажу, все или не все, — резко заговорил антиквар, но тут же снова усмехнулся. — Впрочем, понимаю, понимаю, вы вступаете в брак по любви и, видимо, успели выпить за здоровье вашей суженой.
— А-а! — воскликнул Маркхейм, почему-то вдруг загоревшись любопытством. — А вы-то сами были когда-нибудь влюблены? Расскажите, расскажите мне.
— Я? — воскликнул антиквар. — Я — и любовь! Да у меня времени на это не было, и сегодня я не намерен его тратить на всякий вздор. Берете вы зеркало?
— Куда нам спешить? — возразил ему Маркхейм. — Стоим, беседуем — это так приятно. Жизнь наша коротка и ненадежна, зачем бежать ее приятностей, даже столь скромных, как эта? Надо цепляться за всякую малость, которую можно урвать у жизни, как цепляется человек за край обрыва над пропастью. Если вдуматься, так каждый миг нашей жизни — обрыв, крутой обрыв, и кто сорвется вниз с этой крутизны, тот потеряет всякое подобие человеческое. Так не лучше ли отдаться приятной беседе? Давайте расскажем каждый о себе. Зачем нам носить маску? Доверимся друг другу. Как знать, быть может, мы станем друзьями?
— Мне осталось сказать вам только одно, — проговорил антиквар. — Покупайте или уходите вон из моей лавки!
— Правильно, правильно, — сказал Маркхейм. — Хватит дурачиться. К делу. Покажите мне что-нибудь еще.
Антиквар снова нагнулся, на сей раз чтобы положить зеркало на место; реденькие белесые волосы свесились ему на глаза. Маркхейм чуть подался вперед, держа одну руку в кармане пальто; он расправил плечи и вздохнул всей грудью, и сумятица чувств проступила у него на лице: страх, ужас, решимость, упоение и физическая гадливость, — и под мучительно вздернувшейся верхней губой блеснули зубы.
— Может, вот это вам подойдет? — сказал антиквар, и, когда он стал выпрямляться, Маркхейм бросился на свою жертву сзади. Длинный, как вертел, кинжал сверкнул в воздухе и ударил. Антиквар забился, точно курица, стукнувшись виском о полку, и бесформенной грудой рухнул на пол.
Время заговорило в лавке десятками негромких голосов — и степенных, неторопливых, как подобало их почтенному возрасту, и дробно стрекочущих наперебой. Хитросплетения этого хора отсчитывали своим тиканьем секунду за секундой. Но вот громкий топот мальчишки, пробежавшего по тротуару, примешался к этим более тихим голосам, и Маркхейм, очнувшись, вспомнил, где он находится. Он в страхе огляделся по сторонам. Свеча стояла на прилавке, ее огонек с торжественной мерностью покачивался на сквозняке, и от этого чуть приметного движения вся лавка полнилась бесшумной суетой, и все в ней колыхалось, как взбаламученное море: покачивались высокие тени, густые пласты тьмы вздымались и опадали в ритме дыхания, лица на портретах и у фарфоровых божков меняли выражение и подергивались зыбью, точно отражаясь в воде. Внутренняя дверь лавки стояла приотворенная, и длинная полоска дневного света указующим перстом протягивалась в этот стан теней.
Читать дальше
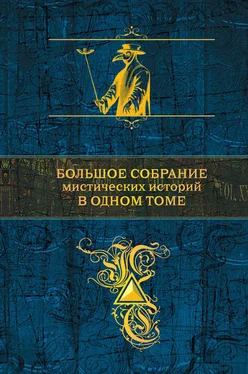







![Владимир Высоцкий - Собрание сочинений в одном томе [Компиляция, сетевое издание]](/books/426247/vladimir-vysockij-sobranie-sochinenij-v-odnom-tome-thumb.webp)
![Александр Беляев - Полное собрание произведений в одном томе [Компиляция, сетевое издание]](/books/426274/aleksandr-belyaev-polnoe-sobranie-proizvedenij-v-od-thumb.webp)