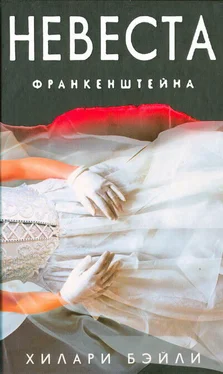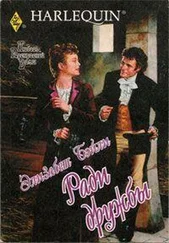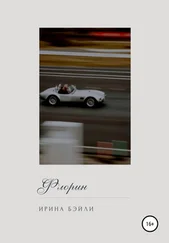После университета я приехал в Лондон для работы над словарем арамейского языка — того самого, на котором говорил Господь. Мой друг Дэвид Хатвей, полиграфист и издатель, недавно напечатал этот труд, а в то время, о котором идет здесь речь, он только ждал, когда я закончу работу.
Как-то вечером я попытался объяснить свои представления о роли языка Корделии Доуни — хозяйке дома, в котором я проживал. Боюсь, она тогда просто посмеялась надо мной.
— Почему ж это? — воскликнула женщина, отрывая взгляд от чулочка дочери, который, как мне помнится, она в тот момент штопала. Уставив на меня свои большие и ясные голубые глаза, она добавила: — Язык — вещь очень простая. Ребенок учит его с рождения. Начиная лепетать и агукать, он уже пытается старательно копировать речь взрослых. Только и всего, мистер Гуделл.
— Тогда почему же на свете так много языков? — спросил я. — Почему все люди, аж до самого Китая, не пользуются одним и тем же языком? И как тогда понять эти строки из Библии, где говорится, что каждый в толпе Иерусалима, празднуя Троицын день, понимал другого, на каком бы языке он ни говорил? И что тогда думать о речи пророков или о голосах, что являются нам в сновидениях? Откуда доходят до нас эти слова, в то время как сознание наше бесконтрольно?
В общем, я пожалел, что задал ей тогда эти вопросы, ибо у миссис Доуни не было на них ответов, а потому вместо продолжения разговора она озадаченно нахмурилась и, издав некий звук — я не стал бы называть его фырканьем, однако он явно свидетельствовал о ее желании отделаться от меня, — принялась кроить маленькое платьице для своей дочурки. Женщины по своей природе не склонны к размышлениям. Они предпочитают жить настоящим. Однако именно эти мои научные изыскания, показавшиеся столь непонятными миссис Доуни, привели меня к той ужасной истории с Виктором Франкенштейном, и не просто привели, но и сделали ее непосредственным участником, что впоследствии полностью изменило мои представления о жизни.
Тем не менее, начало этой истории относится ко времени, которое не требовало от нас особого напряжения и в котором я вижу себя человеком, вполне удовлетворенным своим существованием. Война с Францией закончилась, страна вернулась к мирной жизни.
Оглядываясь назад и пытаясь, используя язык науки, описать себя молодого, я представляю собственный образ в виде неоформленной и неопределенной газообразной массы, возникшей, если можно так выразиться, из моих собственных качеств и обстоятельств жизни. Необходим был катализатор, который способствовал бы превращению этих газов в твердую форму — ту самую, какую я обрел впоследствии. Подумать только — все эти изменения случились со мной благодаря изучению филологии! Чтобы разъяснить, как именно это произошло, я и начну, пожалуй, с главного, а именно с описания того самого ноябрьского дня, упоминавшегося мною ранее.
Я шел по берегу Темзы сквозь туман, стремительно сгущавшийся в сумерках, поглядывая по сторонам в тщетной надежде поймать извозчика, который довез бы меня до Грейз-Инн-роуд, где я, собственно, и обитал.
Пришел я в эту прибрежную часть города пешком, желая нанести визит своему другу Виктору Франкенштейну, дом которого находился на Чейни-Уолк. Я очень пожалел, что решил вернуться домой также пешком, ибо туман сгущался, темнота надвигалась, а я шел в полном одиночестве.
Дорога проходила вдоль северного берега величественной Темзы, и вокруг меня в этот час не было ни души. После тепла и уюта дома Виктора и Элизабет Франкенштейнов меня не очень-то прельщала перспектива прогулки по темным и туманным окраинам Лондона, а потому я ускорил шаг. На фабриках и рыночных площадях, мимо которых я проходил, не было ни души, ибо в это время года темнеет рано. В таком месте любой разбойник и грабитель может подкрасться незамеченным, а у меня с собой не было даже палки.
Вот тогда-то, оглядев прибрежную полосу, увидел я в свете горящего фонаря, установленного на небольшой пристани у дороги, эту массивную и странную фигуру. На каменном причале, выдававшемся в сторону реки, он сгружал огромные ящики и бочки с баржи, причалившей к этой крошечной пристани. Изумленный, смотрел я на эту чудовищную фигуру около шести с половиной футов высотой, облаченную в странное одеяние, напоминавшее длинное потрепанное черное пальто с болтающимися свободно рукавами. Он был без головного убора, и вьющиеся пряди его темных волос свободно ниспадали ему на плечи. Когда стоявшая на якоре баржа покачивалась или кренилась набок, человек этот — как ни трудно мне было в это поверить — склонялся прямо к судну, подхватывал с него деревянные ящики и с невероятной легкостью перебрасывал их на пристань. О весе ящиков можно было судить по тому, с каким трудом справлялись с ними напарники великана. Работа, которая требовала от этих людей больших усилий, была для него детской забавой.
Читать дальше