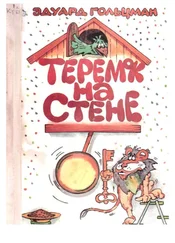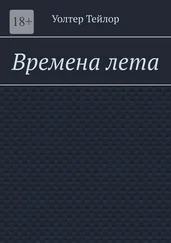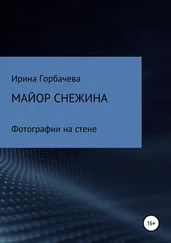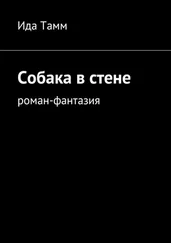Как раз на двадцать вторую годовщину своего заключения в госпитале Данлоп-Хауз на Каррик-Гленн-роуд в Глазго Плюш проснулась посреди ночи от какого-то странного звука — кто-то тихонько мяукал, и звук исходил от стены. Как будто этот «кто-то» был там замурован.
Сначала она подумала, что это плачет младенец, и на мгновение ей показалось, что ее сердце вот-вот остановится.
Она лежала, зачарованная этим звуком, который терзал ее сердце, переполненное виной, пронзительным укором, таким же острым, как обломок кости.
— Прости меня, — прошептала она, мысленно умоляя, чтобы это Колин звала ее из темноты.
Но нет, это был не ребенок. Кот…
…в стене.
Это всего лишь сон, решила она. Сон или слуховая галлюцинация, хотя за все время, проведенное в больнице, Плюш — в отличие от других пациенток — ни разу не слышала потусторонние голоса или нездешнюю музыку, воспевающую самоубийства и изуверства, хвалебную песню жестокости. Ее безумие, которое у нее не отняли более чем за двадцать лет бессмысленного заключения, было иного характера.
Звук никак не умолкал. Когда Плюш поняла, что это надолго, она выбралась из кровати и на цыпочках подошла к единственному окну, что выходило на улицу. Двигаться по ночам тихо — это была привычка, приобретенная за годы, когда Плюш делила комнату с чутко спящей Джеральдин. Месяц назад у Джеральдин случился инсульт, поэтому Плюш перевели в отдельную комнату в северном крыле. Она отодвинула занавеску и, собравшись с духом, выглянула между прутьев изящной железной решетки в стиле рококо — лоза, замысловато завивающаяся спиралями и кольцами, — которая больше напоминала чей-то художественный каприз, нежели средство, удерживающее в заключении обитателей Данлоп-Хауза.
В этот час на узкой и извилистой Каррик-Гленн-роуд было абсолютно тихо и почти пусто. Мусор шуршал по мостовой, подгоняемый ветром. Из лесбийского джаз-клуба на другой стороне улицы вышла парочка затянутых в кожу женщин с панковскими прическами и ярко накрашенными губами. Они шли в обнимку, пьяно спотыкаясь.
Плюш внимательно осмотрела все потрескавшиеся двери и карниз, каждую голую ветку костлявого вяза возле кафе «на вынос» чуть дальше по улице.
Кота нигде не было.
Однако звуки кошачьих стенаний не затихали, и Плюш так и не сумела убедить себя в том, что эти вопли исходят с улицы.
Приглушенное кирпичами, но все-таки безошибочно узнаваемое надрывное мяуканье исходило именно из стены за кроватью.
Стараясь не шуметь по давней привычке, Плюш отодвинула кровать от стены, опустилась на четвереньки и осмотрела стену вдоль плинтусов, ища щель или нишу, в которой мог бы спрятаться кот.
Но там не было ни укромного уголка, ни достаточно вместительной щели.
Там не было места даже для мыши, и уж тем более — для кота.
Но вопли по-прежнему не стихали.
Плюш вдруг поняла, что она тоже плачет от отчаяния и беспомощности. Эти крики напомнили ей о том, что она так хотела забыть — что она тоже узница. В каком бы отчаянном положении ни было животное там, в стене, Плюш не смогла бы помочь несчастному созданию — как не смогла бы освободиться сама.
Но она все равно прикоснулась губами к холодному кирпичу и прошептала:
— Все хорошо. Держись. Я тебе помогу.
* * *
Хотя Плюш провела в Данлоп-Хаузе уже двадцать два года, она была абсолютно уверена, что сошла с ума не до, а во время своего пребывания в клинике.
Безумие монотонной скуки настигло ее в стенах сумасшедшего дома, где по идее ее должны были излечить. С каждым днем это безумие подступало все ближе и ближе — с каждым визитом нетерпеливых очкастых врачей, которые претендовали на то, что у них есть лекарство от ее болезни.
То, что сама Плюш считала нормальным и здравым умом, ее доктора расценивали как очевидное доказательство его отсутствия, и к тому времени, когда она была уже должным образом оболванена и подавлена заключением в психушке, чтобы сойти за нормальную — то есть по меркам врачей, — они решили, что ее случай больше не представляет никакого научного интереса и лечить ее дальше нет смысла. Таким образом, вопрос о ее освобождении даже и не рассматривался.
Не богатая, не образованная, и к тому же женщина (три условия, которые почти отметали возможность и вероятность, что кто-то воспримет ее положение всерьез и наконец освободит ее из психушки), Плюш была старшей дочерью фермера-скотовода из Стромнеса, что на острове Оркней близ северного побережья Шотландии. Странный и нелюдимый ребенок, она была по-настоящему близка только со своим дедом Муни — рыбаком, утверждавшим, что ему являлась Дева Мария, когда он был в плену у японцев во время Второй мировой войны.
Читать дальше
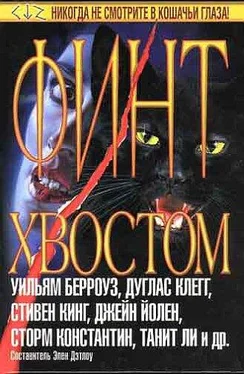

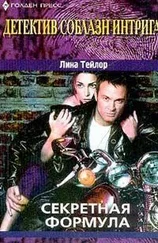

![Олег Аникиенко - Путь от стены к стене [СИ]](/books/421118/oleg-anikienko-put-ot-steny-k-stene-si-thumb.webp)