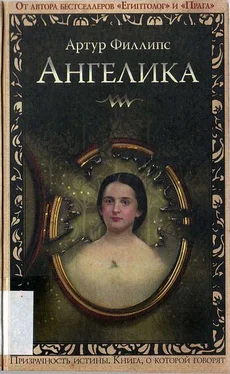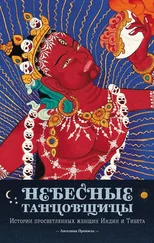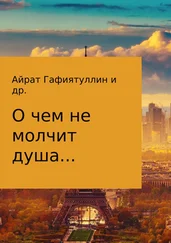— Тихо, мышонок, — сказала Констанс. — Твое личико в утреннем свете очаровывает меня.
— Ты спала тут, со мной, — восхитилась дочь. — В кресле!
— Так и было, — сказала Констанс, пробираясь под одеяла к Ангелике.
— Ты дремала, а я тебя разбудила.
— Воистину, именно так ты и поступила.
— Где же папочка?
— Надобно думать, он в постели, где и был. Следует ли нам пробудить его?
— Нет, — сказала Ангелика. — Мама и ребеночек.
Констанс облобызала дочерины кудри.
— Именно так — и превесьма замечательно.
— Мамочка и ребеночек. Превесьма замечательно.
С каждым днем Ангелика все менее напоминала мать.
И, что еще болезненнее, разница их усугублялась в периоды разлуки. Позже, будучи вынуждена оставлять Ангелику на попечение Норы, Констанс по возвращении дивилась ненавистной перемене, что свершалась за считанные часы, будто некое ужасающее волшебство.
Новорожденная с картой вен под просвечивающей кожей, с одеревенелыми членами и шквальным натиском неудовлетворенного аппетита, Ангелика, вращая слепыми глазами в поисках насущной материнской груди, пришла в эту жизнь непознанным животным, однако же поглощение капля за каплей Констанс столь быстро наполняло ребенка материнской стихией, что вскоре один обожатель за другим принялись подмечать их всевозрастающее сходство. На улицах, в лавках, устами визитеров — хор становился громче день ото дня: «Она — самый что ни на есть ваш образ». Увы, отнюдь не насущной, вспоминала Констанс, ибо два похищенных месяца кряду она принуждена была делить отраду своей жизни с грязной кормилицей.
Разумеется, в Джозефе адски преждевременно возгорелась одна из его преходящих, но навязчивых искр докучливого участия в Ангелике, и он представил некий план («рекомендации лучших врачевателей»), настаивая на том, что хрупкое дитя следует отрывать, невзирая на вопли, от материнской груди, дабы тотчас усадить перед тарелками с едою. «Ты желаешь ей так скоро подавиться макаронами?» — осведомилась тогда Констанс, усмирив его и выиграв еще немного месяцев, в продолжение коих ее подражательница напитывалась волшебным продуктом, замысленным для сближения их во нраве и обличье. Даже когда воля Джозефа брала верх, Констанс втихомолку давала Ангелике грудь, тайно вскармливая ее, когда Нора покидала свой пост и никто не мог донести об их любовном ослушании. Тем не менее перемена свершилась. Чем реже Констанс кормила, тем более явленным становилось преображение. В скором времени метаморфоза Ангелики ускорилась: ее кудряшки, минув каштановые леса, очутились в иссиня-черном поле, и на хладных северных морях ее очей разлилась пленкой италийская тушь.
Сегодня, когда дождь перестал, Констанс вняла вероломному обещанию голубых небес и повела Ангелику в парк, где девочка стала увлеченно полемизировать с маленьким мальчиком, что был одет матросом. Констанс, сидя далеко, слышать их не могла, однако смотрела, как в течение беседы ее дочь становится все непреклоннее. Однако что же два ребенка могли обсуждать с подобной страстью? Рыжеволосый и бледный мореплаватель, казалось, готов был удариться в слезы. Придет день — и он обратится в дородного, румяного англичанина. Суждены ли ему тогда столь же взволнованные беседы с дамами? Он топал ножкой в аккуратном черном ботиночке, и этот гнев веселил Ангелику; ее смех дарил Констанс на сей момент лучшие мгновения дня.
Они шептались, припадая к ушам друг друга, складывали ладони чашечкой и заключали в нее свои тайны с излишним драматизмом, с окольной изощренностью начинающих заговорщиков. Они притворялись, будто следует хранить секрет даже от Констанс. Как удается неприглядному чужаку без малейшего напряжения сил возбуждать в лике Ангелики такие перемены, одерживая победу, драгоценность коей ускользает от тупицы во всей полноте? Какие фразы, что предназначены другим, Ангелика уже — столь мучительно скоро! — сочинила, дабы никогда не делиться ими, даже не пересказывать кратко матери, коя однажды — только вчера — служила ей довереннейшей из наперсниц? Ныне, перешептываясь с мальчишкой под деревом, Ангелика предпочитала беречь мысли для самцов, что вскоре примутся растягивать перед старой матерью терпеливые хищные улыбки, пока один из их породы танцем не увлечет Ангелику прочь в толпу кружащихся пар.
И что же именно флотоводец столь нежного возраста видит, бросая взгляд на темную принцессу? Он, само собой, насыщен холодной английской кровью, нераздражим, вряд ли способен стушевать бледное лицо, пусть даже солнце в попытке добавить цвета испещрило его веснушками. Однако эта кровь, неотличимая, само собой, от крови Констанс, колеблется беспомощным приливом под ясным мерцающим взором луны южных земель. Ибо, хоть Джозеф и был рожден в Лондоне, это не меняло сути дела, как не меняли ее непогрешимые манеры, равно непогрешимый выговор, научный пост в самом сердце английской медицины, служба в Армии Королевы, англичанка-мать. Джозеф был итальянцем, и отец его носил имя Бартоне — никак не иначе.
Читать дальше