Тетрадь третья
43
Несколько дней я провалялся в постели. Все это время тетя Констанция не отходила от меня ни на шаг. Она ставила влажные компрессы на шею, на которой остался глубокий багровый рубец, вливала в рот горькие микстуры, чтобы погасить боль в отравленном вином желудке, натирала пахучими мазями крайнюю плоть, изнуренную шестидневным рукоблудием. В своей заботе она напоминала средневековую даму у постели паладина, раненного в смертельной схватке. Каждый раз, входя в мою комнату, она опускала глаза. За все это время она так на меня и не взглянула. Мы оба знали причину: она страдала от безудержной любви ко мне, от страсти, которую разжег в ее душе волшебный эликсир. По ночам она не могла заснуть. Она металась в постели, рвала ногтями простыни, раздирала до крови иссохшую старческую грудь, а потом падала на колени, пытаясь горячей молитвой усмирить беснование плоти. Но непреодолимой силой ее влекло к дверям моей комнаты. Стена, разделявшая нас, была тонка, и я слышал ее крики. Крики боли. Крики наслаждения. Втайне от меня она вытаскивала из комода мою одежду, чтобы вдыхать запахи моего тела. Удары хлыстом по спине сменялись страстными стонами. Каждое утро она сгорала от стыда, но каждую ночь все повторялось снова. Она боялась прикоснуться ко мне и тем сильней желала меня. Эликсир любви оказался крепче ее веры. Он стучал в ее сердце, увлекал ее на путь греха, звал на кровосмешение.
А я? Я избежал смерти, я вернулся из преисподней, и больше мне не хотелось умирать. Но во мне по‑прежнему жили две воли: моя собственная, Людвига, и иная, воля вечной любви. Как сказано в Священном Писании: «Нельзя служить двум господам сразу, ибо, полюбив одного, ты возненавидишь другого». Святая правда, отец Стефан: человек не способен раздвоиться и жить двумя жизнями, брести двумя дорогами. И тогда я решил сдаться на милость вечной любви. Я решил, что отныне, что бы ни произошло, я буду хранить верность лишь ей. Мой разум помутился, страх перед неизбежным сковал мою волю. Я не мог противиться вечной любви. Мне оставалось лишь убивать, поглощать жизни людей, чтобы жить самому. Не покривлю душой, отец Стефан, если скажу, что в тот день прежний Людвиг Шмидт умер и родился новый человек. Человек, которому чуждо все человеческое. Сочувствие, милосердие, человечность, нежность – я должен был навсегда вырвать их из своего сердца. Я превращался в марионетку в руках слепого рока, в верного пса, готового выполнить любую прихоть хозяина. Мое влечение обрело силу высшего закона, перед которым рассыпались в прах все моральные устои, соглашения и клятвы. Отныне я становился вассалом могущественного властелина, царя царей, без имени и царства. Я стал рабом вечной любви.
44
И вечная любовь продолжала петь моим голосом. Мой повелитель подбирал звуки, рождая совершенные напевы. Но в этих песнях не было ничего человеческого. Они были холодны и прекрасны, но в них уже не слышалось страстного томления людских душ. От вечной любви веяло ледяным холодом. Сердце навсегда утратило нежность, которой прежде был овеян каждый звук, вырывавшийся из моей гортани. Учителя не переставали восхищаться моим голосом, но я‑то знал, что это пою не я, что через меня обращается к миру высокомерный и безжалостный бог. Бог вечной любви, безразличной к людям, незнающей ни милосердия, ни сострадания, и оттого исполненной звенящей пустоты.
Те два года, которые я провел в Мюнхене, я совмещал уроки пения с ночными вылазками, на которые зазывал меня Дионисий. По утрам я занимался своим голосом, а по ночам притворно завидовал любовным способностям моего друга, впрочем, весьма посредственным. Моя лесть вызывала в нем гордость. «Каждому свое, приятель: мне никогда не сравниться с тобой в искусстве пения, но в том, что касается женщин, то тут уж тебе не тягаться со мной», – говорил он, сотрясая воздух громоподобных хохотом. Он не знал, что перед ним – наследник Тристана, что я могу завладеть любой девушкой, какой только пожелаю. Каждую ночь он уединялся в пансионате с одной или двумя простолюдинками и до утра предавался самому разнузданному разврату. Он развратничал, желая убежать от любви, чтобы доказать себе, что ему она не нужна. Мысль, столь же абсурдная, как и та, что огонь не горячий, а вода не мокрая. А каждое утро, отправив подруг по домам, он падал ничком на простыни, пропитанные горячим потом, еще хранившие очертания обнаженных тел. Его била дрожь. Он стонал, молотил кулаками в подушку и проклинал свою мать. Ту, что однажды бросила его и вместе с возлюбленным умчалась на крупе вороного коня, растаяла в душной летней ночи.
Читать дальше





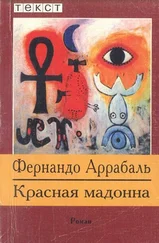



![Андрэ Нортон - Повелитель зверей [Мастер зверей, Властелин чудовищ, Повелитель животных]](/books/346763/andre-norton-povelitel-zverej-master-zverej-vla-thumb.webp)


