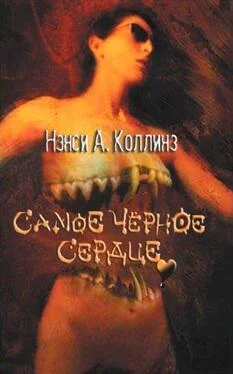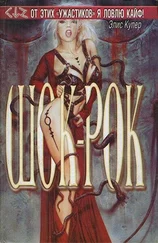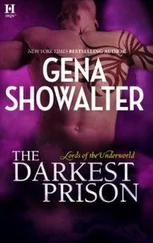Пока все это происходило, я старался тихо затаиться в своем убежище, как олень в лесной чаще, слишком напуганный, чтобы говорить или двигаться, в страхе выдать себя. Но вид живой крови моего отца, выплескивающейся из рассеченного горла, и удар бритвы о дверь, заставили меня слегка пискнуть от ужаса.
Блэкхарт повернул свою голову к зеркалу, не видя меня, но видимый мной. Уголки его рта снова приподнялись в той улыбке, которая не была улыбкой, и в центре зеркала появилась трещина, как будто на него нажали невидимой рукой.
Подвывая от ужаса, я попытался зарыться в зимние вещи отца для защиты, но это было плохой идеей. Я обнаружил себя. Двери резко разъехались в стороны, и пара жестких и сильных, как полосы стали, рук выдернула меня из моего убежища.
– Что это у нас здесь? – усмехнулся Блэкхарт. – Выглядит, на мой вкус, как мальчик, который не делает то, что ему говорят.
Я видел бледное лицо матери, выглядывающей из-за плеча Блэкхарта – она смотрела на меня расширенными и немигающими, как у куклы, глазами. Я позвал её, и она перевела взгляд с Блэкхарта на меня, а потом обратно, но ничего не сделала и не сказала.
– Звать маму бесполезно, щенок, – прорычал Блэкхарт. – Твой отец мертв, твоя мать для тебя потеряна. Твоя жизнь принадлежит мне.
Я пнул его ногами и ударил своими маленькими кулаками, но мои усилия были более чем бесполезны, и я это знал. Я ревел от злобного разочарования, отчаянно пытаясь преодолеть свою бесполезность и детскость каким-нибудь великим героическим действом. Вид моего бедственного положения его сильно развеселил, и его кривая улыбка превратилась в широкий оскал, выставивший напоказ пожелтевшие собачьи клыки. Я оцепенел от страха и закричал, как обыкновенный ребенок, увидевший лицо самого Бугимена, которое заставило его завопить в ужасе. Мой пронзительный рев заставил мать очнуться от транса, и она выхватила меня из рук Блэкхарта, стараясь закрыть своим телом.
– Не трогай его! Пожалуйста, не трогай моего ребенка! – она всхлипывала так сильно, что слова выходили прерывающимися.
Блэкхарт остановил её холодным, как снег, взглядом.
– Там, куда ты собралась, ребенку места нет, – ровно сказал он. – Отдай мне мальчика.
Она сделала шаг от него, её голос стал острее лезвия.
– Я пойду с тобой по собственной воле, но только если ты оставишь моего сына в покое!
Блэкхарт презрительно усмехнулся, резко, как разбитое стекло.
– Детка, ты и так моя, и не важно, каким образом.
– Ты сам сказал, что будет лучше, если я захочу пойти.
Черты Блэкхарта потеряли свою чудовищность, в один миг приняв сходство с человеческими.
– Ты права, моя дорогая. Я предпочел бы, чтобы ты сдалась по своему собственному желанию. Это всё сделает для меня гораздо проще.
– Тогда дай мне слово, что ты ничего не сделаешь Джеку.
– Какое беспокойство, – сказал Блэкхарт, прищелкнув с укором языком.– Значительно больше, чем когда-либо выказывал бедный Фрэнк.
– Он знал, во что ввязался.
– Да ты что?
Блэкхарт взглянул на меня, потом на мою мать.
– Очень хорошо, Глория. У тебя есть моё слово, что я ничего не сделаю мальчику. А теперь отпусти этого плохо воспитанного ребенка и иди ко мне, женщина.
Я заревел, когда мать поставила меня на пол. Я не желал отцепляться от неё, и она была вынуждена с трудом отрывать мои пальцы от своей кофточки. Она стерла слезы с моих щек и пригладила волосы. Я запомнил её последние слова, которые она сказал мне:
– Тише, милый. Не плачь.
Эстес молчал достаточно долго, чтобы сделать глубокий вдох. Он боролся за контроль над собой пятилетним, скрытым глубоко внутри него.
– Следующая вещь, которую я увидел, был свет, бивший мне в глаза, и ещё мужчины и женщины в одинаковых белых костюмах надо мной. Хотя я никого из них не знал, но они все казались мне знакомыми. А потом я заметил, что мое тело… изменилось. Оно стало как-то выше, крупнее, больше… волосатей.
Это было за несколько дней до того, как доктор Морриси сообщил новость о том, что последние 10 лет я провел в кататоническом ступоре. В лучшие моменты этого десятилетия мои зрачки реагировали на свет, но я не реагировал ни на визуальные стимулы, ни на попытки со мной говорить. Если меня вели за руку, я мог идти. Если к моему рту подносили еду, я ел. Когда к губам подносили соломинку, я пил. Но оставив в стороне мои собственные художественные излияния, всё, что я делал, это сидел и пристально смотрел, не обращая внимания на то, что меня окружало, равнодушный к условиям моего содержания, словно кукла с пульсом.
Читать дальше