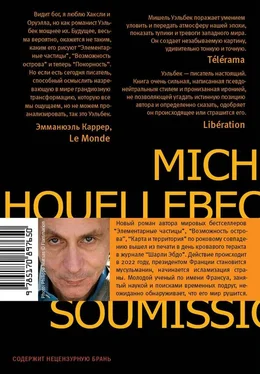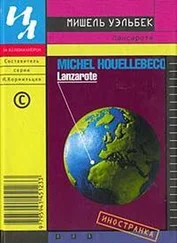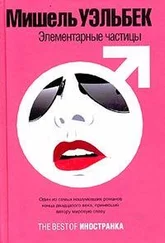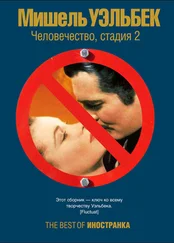Я не был уверен, что разделяю его точку зрения на решающую роль Первой мировой войны; разумеется, это была непростительная бойня, но войну 1870 года тоже можно считать вполне безумной, во всяком случае, если верить описанию Гюисманса; она уже тогда обесценила патриотизм в любом его проявлении; народы всем скопом увязли в этом смертоносном абсурде, и, вероятно, люди вменяемые поняли это уже в 1871 году; вот отсюда, по-моему, и проистекали нигилизм, анархизм и прочие мерзости. Что касается более ранних цивилизаций, то я был не очень в курсе. Арены Лютеции погрузились во тьму, оттуда ушли последние туристы; немногочисленные фонари отбрасывали на ступени амфитеатра слабый свет. Наверняка римляне буквально накануне падения своей империи все еще считали себя вечной нацией; они что, тоже покончили с собой? Рим был цивилизацией грубой и весьма компетентной в военном плане, цивилизацией жестокой, где в качестве развлечения толпе предлагались смертельные побоища между людьми или между людьми и дикими зверями. Но было ли у римлян желание исчезнуть, какая-то тайная червоточина? Редигер наверняка читал Гиббона и других авторов того же рода, которых я знал разве что понаслышке, и чувствовал себя недостаточно подкованным, чтобы поддержать разговор.
– Что-то я увлекся, – сказал он, смущенно махнув рукой. Он налил мне рюмку бухи и снова протянул поднос со сладостями; они были и так очень вкусны, а в сочетании с горечью инжирной водки просто восхитительны.
– Уже поздно, пора мне, видимо, освободить вас от своего присутствия, – сказал я неуверенно; мне не очень-то хотелось уходить, если честно.
– Подождите! – Редигер встал и направился к столу, за которым стояли в ряд словари и справочники. Он вернулся с небольшой книжкой собственного сочинения, вышедшей в карманной иллюстрированной серии под заголовком “Десять вопросов об исламе”.
– Вот, я вас уже три часа агитирую, притом что написал книгу на ту же тему, но, видимо, это становится второй натурой… Хотя, может быть, вы о ней слышали?
– Да, она очень хорошо продалась, не так ли?
– Три миллиона экземпляров, – извиняющимся тоном сказал он. – У меня неожиданно открылись небывалые способности к популяризации. Конечно, все это весьма схематично… – снова извинился он, – зато вы хотя бы быстро ее прочтете.
Там было 128 страниц и немало иллюстраций – в основном репродукции произведений исламского искусства; и правда, на нее вряд ли уйдет много времени. Я сунул книжку в рюкзак.
Он подлил нам еще бухи. За окном взошла луна, ярко осветив арены, теперь ее сияние затмевало фонари; над фотографиями сур Корана и галактик, висящими на стене среди зелени, я заметил лампочки подсветки.
– Вы живете в очень красивом доме…
– Я стремился сюда много лет, и, поверьте, это оказалось непросто…
Он откинулся на спинку кресла и впервые после моего прихода, как мне показалось, по-настоящему расслабился: он собирался мне сказать что-то действительно важное для него, это было очевидно.
– Конечно, мне интересен не Полай, кому вообще может быть интересен Полай? Но для меня каждая минута наполнена счастьем от сознания, что я живу в доме, где Доминик Ори написала “Историю О”, во всяком случае, тут жил ее любовник, признанием в любви к которому и стала эта книга. Поразительная вещь, да?
Я с ним согласился. В “Истории О”, по идее, было все, чтобы мне не понравиться: я испытывал отвращение к выставленным напоказ сексуальным фантазиям, да и вообще во всем этом был оттенок заносчивого китча – квартира на острове Сен-Луи, особняк в квартале Фобур-Сен-Жермен, сэр Стивен , короче, тоска смертная. И однако страсть, звучащая в этом тексте, и его особое дыхание искупали все остальное.
– Покорность, – тихо сказал Редигер. – Никогда еще с такой силой не была выражена столь ошеломляющая и простая мысль – что высшее счастье заключается в полнейшей покорности. Вряд ли я бы рискнул развить эту идею в присутствии своих единоверцев, они, возможно, сочли бы ее кощунственной, но мне кажется, существует связь между абсолютной покорностью женщины мужчине, наподобие той, что описана в “Истории О”, и покорностью человека Богу, как того требует ислам. Видите ли, – продолжал он, – ислам приемлет мир, приемлет во всей его полноте, приемлет мир таким, как он есть , как сказал бы Ницше. С точки зрения буддизма, мир есть дуккха – беспокойство, страдание. Христианство тоже порой этим грешит, недаром ведь Сатану называют “князем мира сего”? Для ислама же, напротив, божественное творение совершенно, это абсолютный шедевр. В сущности, что такое Коран, как не колоссальная мистическая хвалебная ода? Хвала Создателю и покорность его законам. Тем, кто хочет ознакомиться с исламом, я обычно не советую начинать с чтения Корана, разве что они готовы дать себе труд выучить арабский, чтобы погрузиться в оригинальный текст. Я советую им просто слушать и повторять суры, постараться ощутить их дыхание, внутреннее движение. Все же ислам – единственная религия, запрещающая использовать перевод в богослужении, ибо Коран состоит целиком из тактов, рифм, рефренов и созвучий. В основе его лежит глубинный принцип поэзии, единство звучания и смысла, позволяющее выразить мир.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу