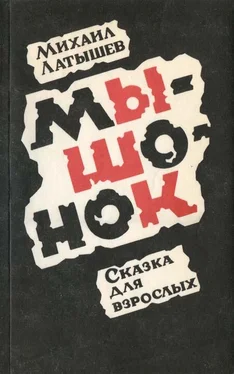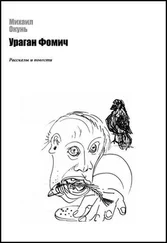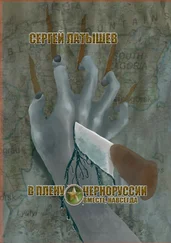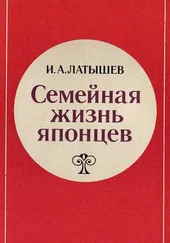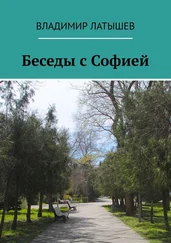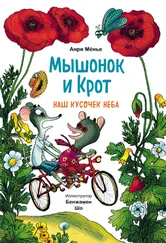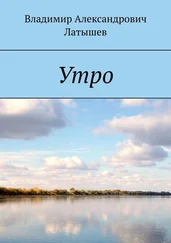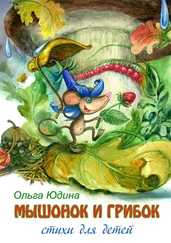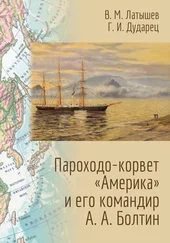Песен Шилов знал множество. И все незнакомых в здешних краях, а потому, может быть, особенно волнующих. Например, Шилов пел — с придыхом, закрывая от волнения глаза:
Да ты не плачь-ко душа да Саша,
Не вздыхай-ко тя… тяжело,
Не вздыхай-ко тя… тяжело.
Да е… если тебе дружка да жалко,
За… забывай его да скорей,
Да забывай его да скорей.
На мгновение голос Шилова прерывался, какая-то хрипотца появлялась в нем, но вскоре песня плыла дальше:
Да я, тогда дружка-то да забуду,
Ко… когда закроются мои глаза,
Ко… когда закроются мои глаза,
Когда закроются мои глаза.
Да у… уста кровью за… запекутся,
Ми… мил не будет це… целовать.
А мил не будет це… ох, целовать.
И тут вступали остальные плотники, выучившие под диктовку Шилова слова песни:
Да он не будет, он не станет
Ду… душой Сашей на… называть,
Ой, душой Сашей на… ой, называть.
И еще дальше, дальше текла песня, рассыпаясь сверкающими каплями по траве — то ли роса блестела, то ли остатки обильного утреннего тумана, то ли чьи-то слезы, пролитые украдкой над верной и неразделенной любовью.
Песни петь Шилов пел, но на разговоры был очень скуп, не позволял никому копаться в своей душе и сам не старался нахально впереться с грязными сапогами в чужую. Кое-кому это не нравилось. Особенно неутомимому говоруну деду Ознобину, который каждое утро первым приходил на хозяйственный двор, с трудом неся тяжеленный топор, завернутый в старый порванный мешок. Как от козла молока, была польза от деда бригаде, но гнать его не гнали — надо же человеку чем-то кормиться, загнется веселый говорун с голодухи, а с ним легче работать, веселее время бежит под шепелявый говорок Ознобина, под фантастические рассказы о том, как беседовал дед в девятьсот двадцать шестом году с товарищем Буденным или как совершал в девятьсот третьем пешую прогулку к графу Толстому, чтобы поговорить о вреде и пользе богатства. Дед уверял, что только под влиянием Толстого не имеет он ни кола, ни порядочного двора, ни семьи, которую не завел якобы потому только, чтобы бороться с мерзкими поползновениями плоти на блуд.
С первой встречи Шилов стал косо смотреть на деда Ознобина, а дед, очарованный силой слов, не верил, будто в жизни могут существовать люди, не любящие поговорить, и потому все лез к Шилову с расспросами о прежней его жизни, пытался покорить шутками-прибаутками, которых Шилов не замечал вовсе. Веселые слова деда Ознобина замерзали на лету, натыкаясь на холод, струившийся из глаз Шилова, стоило тому заметить приближающегося говоруна. В отместку, что ли, Ознобин начал выдумывать истории, в которых наравне с ним действовал Шилов. Рассказывал он эти истории только тогда, когда Шилова рядом не было.
— Боюсь я его, — говорил дед, — по причине мне самому неизвестной.
— Причина известна, — хмыкали плотники. — Язык твой бесхребетный.
— Может и так, — соглашался Ознобин. — Говорить люблю и никто не запретит мне говорить, потому как, кроме правды, ничего другого не говорю.
— Знаем твою правду, — смеялись мужики, — пробовали ее и на вкус и на запах: дюже сказками пахнет.
— А вот тут, — поднимал к небу желтый скрюченный палец дед Ознобин, — понять надо всяким умникам глупым, что издревле говорится: сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Например, вот что было однажды со мной в райцентре. Поехали мы с Федькой Селезневым…
— Ну утихомирься, утихомирься, — говорили деду. — Слышали мы уже эту байку миллион раз. Утихомирься, не отвлекайся, мы из-за тебя ни одного трудодня сегодня не заработаем. Иди-ка лучше в тень, всхрапни, новую сказку придумай.
— И пойду! — с радостью соглашался дед, притворяясь обиженным — даже самому себе не хотел он признаваться, что его плотничанье смех один, что мужики работают за него, подавая ему таким образом милостыню.
Шилов, кстати, с первого дня заявил (еще толком не узнав деда Ознобина), что работать за чужого дядю не намерен.
— Ну что ж, — согласились плотники, — тут ты прав. Твоя выработка это твоя выработка, а мы деду поможем. Для тебя он чужой, а мы все выросли у него на глазах. Без деда Ознобина Березовка немыслима. Мы его любим. А тебя заставить любить деда не можем. Да и ни к чему это — и нашей выработки хватит, чтобы прокормить его, ест он не много, не больше общипанного воробья.
Пристроившись на горе пахнущих смолой стружек, дед Ознобин рассказывал:
— Позапрошлой ночью не спалось мне дюже: и в костях ломота, и голова пуста, как сито, и кишки скрутило — все тянет и тянет на двор. Ну выйду я, сделаю, что надо, и стою, на небушко гляжу, как остолоп какой. Красиво, очень красиво! Так и тянет вздыхать о жизни нашей глупой. Стою, значит, небушко разглядываю, а потом думаю: «Че стоишь, болван старый? Пройдись по Березовке, посмотри че в ней ночью делается. Может, интересное что увидишь…» Ну и пошел я. И увидел. Увидел я… Страшное я увидел, скажу честно. Аж поджилки затряслись… Увидел я: стоит перед правлением председателева бричка, на губах у коней пена — долго, значит скакали… Ну а в бричке не Анастасий Петрович, не председатель, а Гришка Шилов. Да и не Гришка вовсе, а самый настоящий черт! Понятное дело рожки у него, нос, как свиной пятачок, чернеющие усы под пятачком и мундёр с блестящими пуговками, как у поручика в японскую войну. Увидел меня черт, испугался, растаял. И лошадки растаяли. И председателева бричка, получается, тоже растаяла. Стою и думаю: «Приснилось? С ума, Ознобин, сошел? Али на самом деле Григорий наш свет — Матвеевич с нечистым дружит?»
Читать дальше