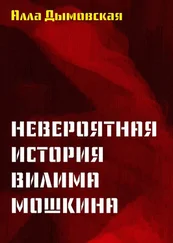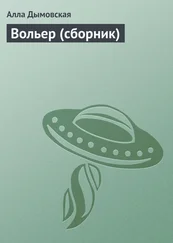ГРЕТЕЛЬ. «Седьмое мая. Опять пришла бессонница. Опять отвратительно гудящая голова. Целый день буду как задыхающаяся на берегу рыба. Какая рыба? Например, камбала. Плоская, с глазами на одном боку, серо-сизая, несчастная. Но себя не жаль. Потому что, все равно. Если целый день я стану думать о спасительной ночи и что мне непременно повезет уснуть, я не переживу. Не переживу как раз этот самый день. Сойду с ума. Навсегда. Что может быть нелепее, чем спятить на орбитальной солнечной станции? Меня даже в лечебницу не отдадут. Вот и останусь здесь, стращать народ, так им и надо! До ближайшей психбольницы два года и семь месяцев, интендантские же, автоматические челноки для перевозки туда-сюда живых существ не предусмотрены. Снаряжать отдельную команду, чтобы вернуть спятившего «ката» домой? Выделки не стоит овчинка… Кх-ууу-мм!… Алло-алло-алло!… Пронто-пронто!… Так. Перенастройка записи. Черт, ай-джи-пи, накрылся? Что такое? Просто у меня клипса отклеилась. Не тереби все время! Не тереби все время мочку уха! Сто раз себе говорила. Замусолила крепление, а новый комплект не выпросишь… Алло-о? Проверка: на Луну-у без меня-а не лети-и-и, не лети-и-и! Порядок. Так вот, новый комплект. Не выпросить. Все Люцифериха, очень ей не по вкусу мои размышления-разговорчики а-ля «сама с собой», но стоп. Шалишь, моя милая. Полномочий у тебя нет. По уговору. И вообще. Личное пространство не запрещено руководством по моему использованию, то есть инструкций на сей счет никаких не имеется. А что не запрещено, то – извините, подвиньтесь! Поэтому, будьте любезны, мадам, отвалите-ка вы в сторонку по-хорошему. А то что? А то будет неинтеллигентно. Пошленько будет. И смешно… Фырчит на меня изо дня в день, будто избалованная кошка, которой отдавили лапу, но пристает все же меньше, мой ай-джи-пи не видать ей, как свои юные годы, Люцифериха это, по счастью, смогла уразуметь. Отыграется на другом, она может. Они все могут. Ну что же, как говорится, бог в помощь!
– Вам пора. Пора на выход! Вы слышите меня? Мендл? Вы нарушаете внутренние правила. В который раз!
А этот трубный глас – это Бран. Надзиратель. Надсмотрщик. Сапог. Еще и влюблен в меня. Он так думает. А меня от него тошнит. Бран это знает. И потому отчаивается.
– Мендл? Я вам говорю. Почему я должен…?
– Вы не должны. Сами вызвались – вот и терпите! Вечный патрульный.
– Я несу общественную обязанность.
– Интересно какую? Досаждать мирным людям, которые знать вас не хотят?
– Вы не имеете права, Мендл. Оскорблять меня.
– Я на все имею право. Потому что, у меня вообще никаких прав нет. Я могу наплевать на вас, а вот вы, Бран, наплевать на меня не можете.
– Ваше дело. Хотите, сидите взаперти целый день. Только это глупо. И голодно…. Я пошел, Мендл???
Обиделся. Зря, конечно, я напустилась на него. Бран не виноват. И никакой он, если честно, не надсмотрщик. Он бывший сержант группы «воздушный антитеррор», некогда приписанной к порту Ванкувер-1. Здесь, на «Гайавате», он отвечает за навигацию. Поясню. Следит, чтобы никто не входил без спросу в опечатанную рулевую рубку, куда и с разрешения никто не станет входить в здравом уме. Зачем? Сплошная самокомпенсационная автоматика, жужжащая на границе с ультразвуком, жара за пятьдесят градусов и ядовитые испарения ферромагнитных охладителей. Я полагаю, на Марсе без скафандра легче выжить, чем в этом осином гнезде. Но Бран следит, и бдит аки Аргус. Чтобы никто не входил. Да! Еще он дважды в день, то есть, дважды за двенадцатичасовую смену отмечает режим «без происшествий», и натурально удостоверяет сие действие собственноручной подписью. У него плохо получается. Потому что писать он почти не умеет совсем. Только набирать электронный шрифт одним пальцем или по голосовой команде. Я видела однажды как он с усилием карябал стилом по силиконовой проверочной планшетке – Бр-ра и дальше какая-то пьяная молния. В общем – бррррр…
Сегодня у нас кривой день. Точнее, кривой день у меня. Каждая вторая условная пятница – тринадцатая. То есть, напряжжжно-утомительная. Крррр… Проклятый ай-джи-пи! Ой, прости, прости, дружочек, я не хотела… Напряжжжно… получается. Ничего звучит. Хотя свой голос кажется противным. Многим собственный голос кажется противным – потому что кажется чужим. Услышит человек сам себя, и хочется ему сбежать на край света. От себя самого. А выясняется, края света нет, мало того, голос и человек неразлучны, так что, хорошо только немым, некуда бежать и не надо.
Каждая вторая условная пятница – два часа обязательных душеспасительных мытарств в кабинете «разрядки», и потом весь остальной день приходишь в себя, потому что разряжен полностью. Каждая вторая условная пятница – это магистр Олафсен, он и есть мой Мытарь, чтоб ему провалиться, беда только – здесь ни верха, ни низа вовсе нет. Магистр Олафсен, очеловечившийся датский дог, промотавший титул барон, баронишка, фуфел, мастер грога и красного носа, он… кх-кх-х…раз… раз… а нет, все в порядке, просто горло перехватило, спастическая реакция на депривацию. Тьфу ты! Словами магистра Олафсена заговорила, ну до чего я дошла! Итак. Магистр Олафсен, немолодой хрыч, король-козлобород, здешний психолог, врачеватель душ, которые, на его взгляд, все до одной нуждаются в срочной и неотложной помощи, а моя и вовсе спасению не подлежит, потому что поздно. Поздно! Но он, магистр Олафсен, пытается. И пытает меня. Он и пастор Шулль. Последний – несмотря на то, что я систематически-безуспешно объясняю: я иудейка, и вдобавок эмигрантка во втором поколении из израильской Беэр-шивы, стало быть, к англиканской церкви не имею даже призрачного отношения. Но пастора бесит не мой еврейский снобизм, а мой закоснелый атеизм, он утверждает – иное вероисповедание есть лишь разногласие в разночтении, а вот отсутствие вовсе «бога в душе» дело скверное. И нудит мне о вечных ценностях, о спасении верой, но главное – о карах небесных. Это мне-то! Не понимая, что он и магистр Олафсен эти самые божьи наказания и есть, причем столь суровые, что даже не знаю, чем я подобное заслужила. Тем паче я не атеист. Не атеистка. Я всего-навсего не знаю, а потому судить не могу, о том, чего не знаю. Верить же слепо у меня никогда не получалось. Никому. С самого детства. Ни папе, ни маме, ни прочей близко-дальней родне. От моего старшего брата Генрика и вовсе частенько доставались колотушки за то, что ему никак не удавалось меня провести, даже баснями о Санта-Клаусе, в которого, между прочим, Генрик верил лет до десяти, здоровый долдон… Все рождественская Г-фильмотека, она виновата, обыкновенная пустая голография, имитация в пространстве, пшик и более ничего, однако она на него действовала отупительно, как на многих других. И в оленей верил, и в эльфов, а когда разуверился, стал смотреть украдкой порнушку, ничто другое его не интересовало. И то верно, какой смысл в добродетели, если Санта-Клауса нет.
Читать дальше