«На издание “1984” книгой мы получили большую субсидию от вдовы Оруэлла, согласно его предсмертному пожеланию. Труднейший перевод <���…> был сделан безвозмездно ныне покойным<���и> профессором Н.Е. Андреевым (Кембридж) и Н.С. Витовым (Монтерей)» [1] Интервью с основателем журнала Евгением Романовым // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1986. № 141. Цит. по: Свободное слово «Посева»: 1945–1995. – М.: Посев, 1995. С. 69.
.
Именно с этого конспиративного перевода началось знакомство русского читателя с творчеством Оруэлла. Именно оно и публикуется в данном издании.
Мой роман не направлен против социализма или британской лейбористской партии (я за неё голосую), но против тех извращений централизованной экономики, которым она подвержена и которые уже частично реализованы в коммунизме и фашизме. Я не убеждён, что общество такого рода обязательно должно возникнуть, но я убеждён (учитывая, разумеется, что моя книга – сатира), что нечто в этом роде может быть. Я убеждён также, что тоталитарная идея живёт в сознании интеллектуалов везде, и я попытался проследить эту идею до логического конца. Действие книги я поместил в Англию, чтобы подчеркнуть, что англоязычные нации ничем не лучше других и что тоталитаризм, если с ним не бороться, может победить повсюду.
Джордж Оруэлл. 1949 г.
Был ясный холодный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Пригнув подбородок к груди, чтобы укрыться от отвратительного ветра, Уинстон Смит быстро проскользнул в стеклянные двери Особняка Победы, не успев, однако, помешать вихрю песчаной пыли ворваться следом.
В коридоре пахло вареной капустой и старыми половиками. В конце коридора висел разноцветный плакат, казавшийся слишком большим для того, чтобы вывешивать его в помещении. Он изображал громадное – более метра в ширину – лицо мужчины лет сорока пяти с густыми черными усами и с грубо-красивыми чертами. Уинстон стал взбираться по лестнице. Нечего было и думать о лифте. Даже и в лучшие времена он редко работал, а теперь электрический ток днем вообще не подавался. Это было частью режима экономии, которым отмечалась подготовка к Неделе Ненависти. До квартиры надо было пройти семь пролетов лестницы, и Уинстон, в свои тридцать девять лет и со своей варикозной язвой над правой лодыжкой, поднимался медленно, несколько раз отдыхая по пути. На каждой площадке против шахты лифта пристально смотрело с плаката громадное лицо. Это был один из тех портретов, на которых глаза посажены как-то так ловко, что следуют за вами, куда бы вы ни двинулись. «Старший Брат охраняет тебя» – гласила надпись под портретом.
В квартире мелодичный голос читал перечень цифр, имевших какое-то отношение к. выплавке чугуна. Голос исходил из металлического овального диска, похожего на тусклое зеркало, вделанное в стену направо от входа. Уинстон повернул выключатель, и голос понизился, хотя слова все еще можно было разобрать. Аппарат (называвшийся телескрином) можно было только притушить, но не выключить совсем. Уинстон подошел к окну. Синий комбинезон члена Партии лишь подчеркивал его невысокий рост, хрупкое телосложение и худобу. У него были очень светлые волосы и лицо сангвиника, кожа его загрубела от скверного мыла, от тупых бритвенных лезвий и от зимней стужи, которая только что успела кончиться.

Мадрид, пьяный мужчина
Даже сквозь закрытые окна мир снаружи выглядел неприютно-холодным. На улице порывы ветра закручивали в воронки пыль и клочки бумаги, и, хотя сияло солнце и небо было ярко-голубым, все казалось каким-то бесцветным, кроме наклеенных везде плакатов. Лицо с черными усами пристально смотрело с каждого важного перекрестка. Один из плакатов висел на фасаде дома прямо напротив. «Старший Брат охраняет тебя» – говорила надпись, в то время, как темные глаза глубоко смотрели на Уинстона. Ниже, на уровне улицы, другой плакат с порванным углом судорожно полоскался на ветру, то открывая, то закрывая единственное написанное на нем слово: АНГСОЦ. Вдали, между крышами, плавно скользнул вниз геликоптер, повис на мгновение в воздухе, словно синяя мясная муха, и опять устремился дальше в кривом полете. Это полицейский патруль подглядывал в чужие окна. Но патрули – это пустяк. Иное дело – Полиция Мысли…
За спиной Уинстона телескрин все еще что-то бормотал насчет производства чугуна и перевыполнения плана Девятой Трехлетки. Телескрин соединял в себе приемник и передатчик. Он улавливал любой звук, едва превышавший самый осторожный шопот; больше того, – пока Уинстон находился в поле зрения металлического диска, его могли так же хорошо видеть, как и слышать. Нельзя было, конечно, знать, следят за вами в данную минуту или нет. Можно было только строить разные догадки насчет того, насколько часто и какую сеть индивидуальных аппаратов включает Полиция Мысли. Возможно даже, что за каждым наблюдали постоянно. И во всяком случае, ваш аппарат мог быть включен когда угодно. Приходилось жить, и, по привычке, превратившейся в инстинкт, люди жили, предполагая, что каждый производимый ими звук – подслушивается, и любое их движение, если его не скрывает темнота, – пристально наблюдается.
Читать дальше


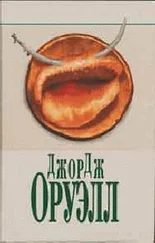

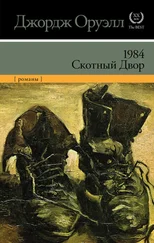



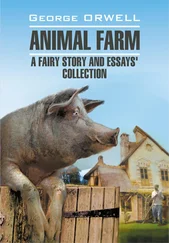
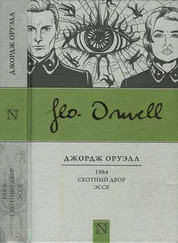
![Джордж Оруэлл - Скотный двор. Эссе [сборник litres]](/books/431073/dzhordzh-oruell-skotnyj-dvor-esse-sbornik-litres-thumb.webp)
