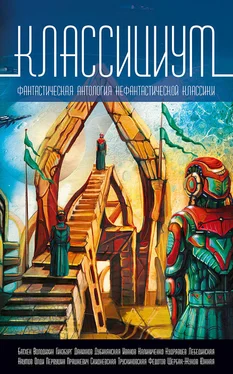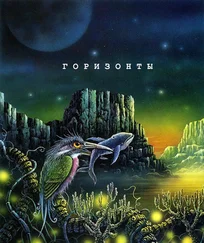Негромкое «так» пули остановило уллу. Струны с лязгом разорвались. Бледный как смерть юродивый осел на песок легко – так опускается с выси подбитый метким выстрелом гусь. Не дожидаясь команды, солдаты рванулись вперед, сорванный бас Оболенского перехватил их в прыжке, как дрессированных псов. «Кто посмел?!» – орал он. «Стоять! Стоять, сволочи! Брать живым!» Ногой пихнув дверцу грузовика, я выпрыгнул наземь и успел отнять музыканта у озверевших бойцов. Тот едва дышал, сеточка синих сосудов трепетала на бледной груди. Крови не было, только опухоль на животе, там где в тело ударилась улла. Длинные, девичьи ресницы на тяжелых набрякших веках трепетали пойманными мышатами, большой рот обветрился, скулы заострились, кадык на шее мерно ходил, словно пленник пил жаркий воздух. Я почувствовал – он уходит к своим богам.
Мягким шагом подкрался наш сталкер, Викэнинниш Билл, тронул смуглой ладонью влажный лоб пленника, коснулся трепещущих ноздрей.
– His number goes up. I killed him.
Вздохнул и добавил:
– I am a shaman. I’m not afraid of witchcraft Martians.
…Хорошо, что с нами увязался индеец. Мы взяли безвольное тело и вынесли к дороге. Юродивый не пробовал сопротивляться, отдав все силы гипнотической музыке.
– Допроси его, Билл! – открыв дверку кабины, пробормотал капитан Оболенский. Нездоровая желтизна разливалась по опухшему, перечерченному сетью ранних морщин лицу офицера.
Коротко улыбнувшись, Викэнинниш присел на корточки, ловкими пальцами нащупал ямочки на висках пленника, нажал – и огромные фиолетовые глаза распахнулись. Меня хлестнуло смертной тоской – такое горе я видел однажды у галицийских крестьян, которые хоронили убитого поляками отца в загаженной солдатней, издыхающей церкви, а вокруг полыхала деревня.
– Оцтиу ке ахаса? Гу луа маиу Магацитл? – Гортанный, прищелкивающий голос индейца прекрасно справлялся с причудливыми марсианскими созвучиями.
– Пуна шохо, теа Тлацетл. Лицса ну фосса Тума. Лицса ну кеа. Лицса ну кеа… – Слова вытекали из пересохшего рта марсианина, словно вялая струйка слюны. Я напряг слух – и мне стали явны его речи.
– Дайте нам умереть. Тума устала, – повторял музыкант, и в голосе его стыли слезы оскопленных столетий. – Тума пришла к концу. Наши мужчины давно потеряли гордость, наши женщины рождают слабых детей, наши книги перестали звучать, наши сны онемели. Наше время пришло, как приходит время листа, оторванного от ветки осенним ветром, падающего на душу последнего мудреца из племени пастухов. Пламя желаний оставило нас, руки утратили силу, даже старейшие из певцов с юности не слышали новых песен. Мы готовились к смерти спокойно и радостно, мы смотрели на небо и слушали, как шуршат по песку голодные пауки, мы перестали заключать браки и поклоняться родительским очагам. Время текло по нам потоком утробных вод, в клубах дыма хавры улыбалась белолицая смерть и целовала своих избранников. А потом пришли вы, Магацитлы, – полные мощной плоти, яростные, вонючие. Ваша сила, ваша проклятая красная кровь повернула часы, и песок посыпался вспять. Женщины больше не дают детям сладкий сок сонных трав, они уходят от мужей и требуют жизни, как курильщики – ядовитого дыма. Наши юноши отбросили созерцание и взялись за ножи – одни режут новые уллы, другие режут друг друга. Уходите, оставьте нас среди мрака. Уходите к себе, Сыны Неба. Дайте нам умереть. Дайте нам…
Слабый голос прервался и стих. Фиолетовые глаза закрылись. Дыхание стихло. Капитан Оболенский махнул рукой, отзывая врача, – впрочем, вряд ли наш доктор Ли, справился бы с этой болезнью. Где-то в дальних холмах загудел колокол, словно провожая храброго сына Тумы. Тяжелым движением я поднялся с колен, протер очки, осмотрелся. Раненых было трое, белорус Ляпидевский стонал, баюкая обожженную руку, остальные молчали. Группа солдат – вперемешку наши и немцы, бранясь, выталкивала на дорогу беспомощный грузовик, ещё двое собирали рассыпанные по песку консервные банки. К луже крови окарачь подбирались шустрые пауки, сержант Горбовский срезал одного выстрелом.
– Что с этим делать? – хмуро спросил Викэнинниш у капитана и сложил умершему на груди руки.
– Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, – оскалился Оболенский. – По машинам!
До заката мы не встретили никого больше и встали на ночлег подле высохшего колодца. Окруженный тушами грузовиков палаточный лагерь в долине казался хрупким младенцем посреди огромной пустыни. Песок скрипел и трещал, отдавая земную жару, смрадные тени копошились в зарослях кактусов. Немецкие часовые наигрывали на гармониках неизбежную «Лили Марлен», наши парни выстукивали на зубах злое «Яблочко». Солдаты спали вповалку, едва раздевшись, вскакивали от горячечных снов, жадно сосали воду из фляг и снова падали в небытие. Я вытащил одеяло наружу, разлегся, поднял взгляд к красному небу, по которому суетливыми старухами ползли луны. Жизнь сочилась из меня вместе с потом, стучала молотом в хижине грудной клетки, таяла вкусом черного хлеба на языке. На Земле пировала суббота, старухи, твердя ветхие, как они сами, молитвы, зажигали тонкие свечи, женщины беспокойно оглядывали субботнюю трапезу, подпоясанные и умытые мужья уходили переулками в синагоги. Здесь не было буден и праздников – только путь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу