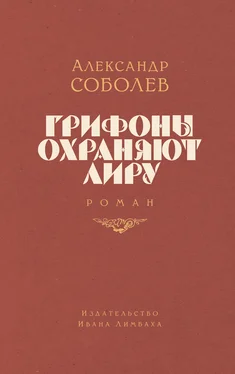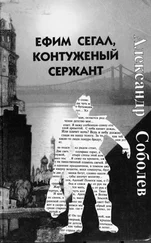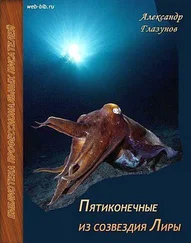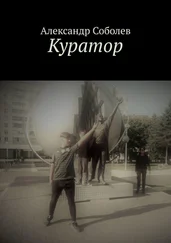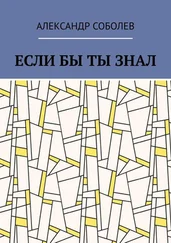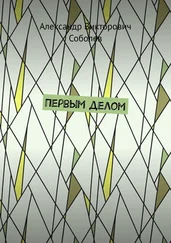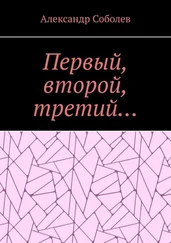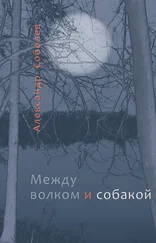1 ...5 6 7 9 10 11 ...135 А вот литература оставляла его целиком и полностью равнодушным. Поливановская гимназия, по праву гордившаяся своими прославленными поэтами-выпускниками, придавала особенное значение преподаванию словесности. Кафедра истории литературы процветала, насчитывая шесть, кажется, профессоров и изрядное количество доцентов, ассистентов и даже лаборантов, смысл существования и область действия которых оставалась таинственной, но необходимость диктовалась традицией, которую свято чтили. На уроках читали стихи и прозу на двух древних и четырех европейских языках — и старенький Алексей Александрович Мясново, преподаватель латыни, ежегодно всхлипывал перед классом, дойдя до особенного места из Вергилия и немея перед величием строки и неспособностью внушить нужное почтение двум десяткам шалопаев, чьи имена и лица он перестал запоминать и различать уже четверть века назад. Насмешливый взгляд одного из знаменитых предшественников, крупнейшего среди здравствующих поэтов современности, чьим именем были названы улицы, площади, рыболовецкий сейнер, тяжелый бомбардировщик и даже деревенька в Воронежской губернии, где он сроду не бывал и проездом, встречал ученика и просто посетителя с первых же секунд: его бронзовый бюст, сработанный некогда А. С. Г-ной, высился прямо напротив входной двери, проникая своим металлическим взором непосредственно в душу пришлеца. Так происходила первая прививка его немузыкальных, раздражающих, каких-то дребезжащих, но фантастически и против воли запоминающихся стихов, которые сопровождали поливановца все годы обучения: от диктантов в первом классе до обширных эссе «Что сказал бы NN, если бы услышал о…» в выпускном. На проверку последних порой заявлялся и сам NN: грузный, тяжело переваливающийся с ноги на ногу, как дрессированный цыганский медведь (последние представители этого вымирающего племени еще нет-нет да и забредали в окраинные московские кварталы), презирающий цивилизацию: в частности, ездящий на старом «роллс-ройсе», управляемом столь же старым шофером-камердинером. Последний был миниатюрен и сух, как вобла, так что видевшим его вместе с шефом казалось, что плоть, дарованную изначально каждому из них, они поделили как мужик и медведь: одному достались вершки (то есть мышцы с подкожным жиром), а второму корешки — кожа да кости. Никодим на выпускном экзамене писал как раз эссе такого рода, выбрав сам (но, кажется, не без подсказки преподавателя) — «Что сказал бы NN, узнав, что его все забыли». Писал он там вполне очевидные вещи — что NN, начинавший декадентом и ниспровергателем основ, продолжавший умелым и успешливым издателем, руководивший ежедневной газетой, заседавший в Думе, воспитывавший молодых поэтов в специальных выездных симпосиях (где, по слухам, античная простота практиковалась не только в области стихосложения), пачками подписывавший в семнадцатом году смертные приговоры красным, канонизованный и коронованный при жизни, вряд ли обратил бы внимание на такой пустячок, как внимание или невнимание действующего поколения. На экзамене NN, прочитав это (Никодиму запомнился вороватый жест профессора, пытавшегося засунуть его странички поглубже в стопку), слегка подвигал нижней челюстью, отчего стал сразу похож на старую мудрую черепаху, и поднял на Никодима, по традиции стоявшего рядом с креслом почетного гостя, свои болотно-зеленые глаза: правый был с бельмом, но левый живо поблескивал из-под складчатых век. «Далеко пойдете, молодой человек, — сказал он скрипучим голосом, — далеко, далеко пойдете, молодой, пойдете веко, чело» (язык ли его заплетался от старости, или просто старому речарю и слововержцу, по собственной характеристике полувековой давности, захотелось пошалить). На этом аудиенция была окончена — и одновременно завершились, не начавшись толком, познания Никодима в литературе ХХ века. Впрочем, несмотря на всю его холодность к предмету и глубину незнакомства с ним, имя Шарумкина было ему небезызвестно.
Да и вряд ли нашелся бы в России этих лет такой человек, который бы о нем никогда не слышал. Слава пришла к нему в начале сороковых, после выхода его первого романа «Незадачливый почтарь». Илларион Петрович Малишевский, гимназический преподаватель изящной словесности, люто ненавидевший Шарумкина (как, впрочем, и любого автора, имевшего несчастье жить позже боготворимого им Лескова) и под угрозой собственного увольнения заставивший местное начальство изъять его из программы, не мог, как ни старался, полностью игнорировать факт его существования. «Вы спрашиваете, как этот словесный форшмак, эта синтаксическая каменоломня могла добраться до печатного станка? — восклицал он, стоя перед классом (его никто и ни о чем в этом роде не спрашивал). — Миновав мусорную корзинку помощницы младшей секретарши, казалось бы самой судьбою предназначенную для нее, да?» Позже, охолонув, он пускался в рассуждения о том, как необыкновенно удачно, в единственную возможную секунду, когда дверь высокой литературы оказалась приоткрыта, а привратник отлучился, сумел в нее прошмыгнуть этот специфический роман. Малишевский называл тогдашнюю ситуацию «тоской по мелкотравчатой прозе», поясняя: публика устала от идей, публика устала от трилогий, тетралогий, эпопей; публике хотелось быстрого и занимательного, но с оттенком высшего смысла, поскольку детективов (тут он корчился, как горгулья) публика-с изволит стесняться-с. При этом в самом романе ничего, наводившего на мысль о родстве с детективом, не было: сюжет его состоял в очень подробном, чуть ли не поминутном описании последних дней тяжелобольного и, в сущности, обреченного человека. Справившись с первым шоком от врачебного приговора, тот, благодаря практичному уму, решил не предаваться праздному и бесполезному ожиданию неизбежного, а, напротив, сделаться первым в истории (о других он не слыхал) курьером на тот свет. Он опубликовал в газетах объявление о скором отбытии в страну, откуда нет возврата, и предложил желающим за скромную мзду (или вовсе безвозмездно) передать с ним любые сведения любым адресатам, не гарантируя, естественно, своевременную и безупречную доставку, но обещая приложить все усилия, чтобы таковая состоялась и была по возможности корректной. Конечно, о прямой передаче овеществленных предметов речи не шло: младенческая наивность фараонов, навьючивавших караваны вдогонку упокоившемуся правителю, казалась ему (и его автору) последним проблеском первобытной невинной наивности перед наступлением циничных тысячелетий. Нет, он предполагал заучивать послания, ежели таковые появятся, с тем чтобы после известной процедуры восстановить их по памяти и прочитать адресатам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу