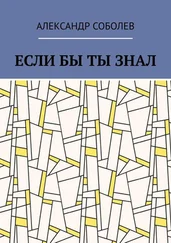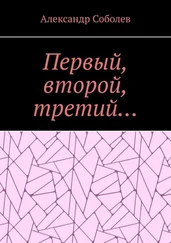Говоря это, он глядел прямо в землю перед собой, но с последними словами он поднял их и посмотрел, казалось, прямо в глаза Никодиму. Тот понимал, что это оптическая иллюзия, подобная той, которую знали художники Возрождения: известно, что их портреты обычно внимательно следят за зрителем, покуда он не выйдет, докучливый, из музейной залы, после чего подмигивают старушкам-смотрительницам (а иначе что бы их заставляло корпеть на этой нелепой малооплачиваемой работе, вместо того чтобы нянчить розовых пухленьких внучат). И точно — не заметив Никодима, он обвел взглядом круг собравшихся, после чего кивнул. Откуда-то из темноты вышел человек, ведя за собой на веревочке светло-серую овцу, которая равнодушно трусила за ним, несмотря на весь зловещий антураж. Выведя ее в круг света, он поставил ее прямо перед шаманом, зайдя справа от него, потом опустился на одно колено, как посвящаемый в рыцари, и обхватил бедное животное за морду. Шаман проговорил:
«На море на Окиане, на острове на Буяне, на полой поляне, светит месяц на осинов пень, в зелен лес, в широкий дол. Около пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый; а в лес волк не заходит, а в дол волк не забродит. Месяц, месяц — золотые рожки! Расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя, человека и гады».
Воцарилось молчание. Откуда-то в руках шамана оказался длинный нож, почти меч: или он извлек его из темных ножен, или его подал кто-то, остававшийся в темноте. Он воздел его к небу, и красные отблески костра заплясали на полированной стали. Казалось, даже потрескивание валежника прекратилось — такая тишина повисла в воздухе. И в этот момент кое-как державшаяся под Никодимом лавка подломилась, и он с тяжелым грохотом повалился на пол.
Несколько секунд он пролежал как бы в забытьи — может быть, падая, ударился головой и на мгновение потерял сознание, но, скорее, просто был ошеломлен неожиданностью. Свеча продолжала бесстрастно гореть, отбрасывая подвижные тени на стены и потолок комнаты. Аккуратно приподнимаясь, придерживаясь за лежащую рядом лавку, Никодим попробовал встать, гадая про себя, не сломал ли он себе что-нибудь в полете, но в это время со стороны входной двери вновь зазвенела цепь. Задвинуть лавку на место, лечь и притвориться спящим он уже не успевал, да выглядело бы это скорее нелепо — поэтому он выпрямился, скрестил руки на груди и постарался придать себе по возможности независимый вид.
— Ты все испортил, — проревел бывший возница, распахивая дверь и вбегая в комнату, причем пламя, колеблемое притоком воздуха, вновь заметалось, заставляя тени бесноваться еще сильнее их обладателей. За шаманом в дверь заходили и становились у дальней стены и остальные люди, бывшие у костра: роли их были без слов, но смотрели они крайне укоризненно.
— Из-за тебя мы… — проговорил он уже не столько свирепо, сколько почти плаксиво и махнул рукой. — Ну извини, ты сам напросился. Принесите веревки, — бросил он своим спутникам, один из которых немедленно, закивав, кинулся прочь.
— А что вы… — начал было Никодим, но тот замотал головой: «Нет-нет-нет, сегодня ты уже больше ничего не сможешь изгадить. Надо было с самого начала тебя связать».
С улицы послышался лай, потом меканье несостоявшейся жертвы, потом быстрые шаги: тот же малый, который приносил Никодиму еду, принес теперь пук каких-то спутанных веревок, приводивших на ум старинное слово «вервие», но — запоздалый укол человеколюбия — в другой руке он держал большую глиняную кружку, которую и протянул Никодиму. Тот выпил воду (вкусную, хотя и отдававшую болотцем) одним глотком, после чего смирился с неизбежным. В покорности, с которой он согласился, не сопротивляясь, дать себя привязать к той же самой лавке, выдвинутой теперь ровно на середину избы, было что-то лечебное: так пациент, веря в целебную силу скальпеля, охотно, хотя и несколько тревожась, ложится на операционный стол. Не то чтобы он ждал от окружавших его простоватых мужиков и баб какого-то особенного (да и вообще какого бы то ни было) исцеления, но само движение вниз по течению событий снова было ему скорее по душе. Умом он понимал, что сопротивление бесполезно: какие бы ни были намерения у пленивших его пейзан, ему не суждено было их изменить — но в безмолвном подчинении чувствовалась ему какая-то особенная правда, природы которой понять он не мог. Тюремщики действовали без всякого мучительства, заботясь лишь о том, чтобы надежно его зафиксировать. Его уложили на живот, причем чья-то добрая рука, он не успел заметить чья, подсунула ему под голову его же собственный в несколько раз сложенный пиджак. Ноги связали между собой, потом еще дополнительно другой веревкой, пропустив ее снизу, прикрутили к лавке. Руки, заведя вперед, соединили под сиденьем, там их примотав: эта веревка причиняла наибольшее неудобство, поскольку на запястье приходился узел, случайно вдавившийся в особенно болезненную точку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу