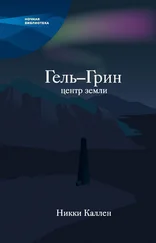— Для тебя и для этого собора — наверное…
— Зачем вы хотите убить наш собор?
— Ваш собор? Это ваш собор хочет убить меня… всю память обо мне…
— Я не понимаю.
— Конечно, не поймешь. Что ты знаешь о соборе? Хоть и живешь здесь всю свою маленькую жизнь, ты, птаха… да что собор… их тысячи… Вот ты диво дивное…
— Я… никому не скажу. Только, пожалуйста, не убивайте собор. Он ведь живой.
— А ты? Ты готова умереть сейчас за этот собор, за эту груду камня, железа, дерева, мрамора, стекла? Если я скажу: его жизнь или твоя?
— Убейте меня, — Ангел поняла, что не боится: если бы он хотел убить ее, он бы уже сделал это; человек отступил; она, лишившись опоры, свалилась на мостовую, стукнулась больно коленками, охнула, стала собирать тело в кучу. Человек смотрел на нее; он был просто невероятно сложен, великолепно — стройный, тонкий, и при этом в нем крылась мощь плотины.
— Я видел, куда ты любишь ходить гулять, — сказал он в темноте, — это самая последняя лавочка на пляже. Ты встречалась там с этим парнем, летала с ним над водой. Смелый, должно быть, молодой человек…
— Он меня любит, — ответила Ангел. — Я могу и вас поднять и сбросить с крыши. В воздухе мне легче — как обычным людям в воде.
— Я не боюсь падать.
— Я тоже.
Она смотрела на него снизу вверх: он был в черном коротком, до середины бедра, приталенном пальто, в свитере и джинсах и в узких дорогих черных ботинках, модельных, «Прада» какая-нибудь; и если бы не запах бензина и синяки на шее, она бы ни за что не поверила… или поверила? Такой он был невероятный… Вампир Лестат — подумала Ангел.
— Я приду завтра, — сказал он, — еще одно свидание. В пять утра, чтобы никто не видел…
И исчез; темнота, словно платье, взметнулась за ним…
Она не спала всю ночь; сначала смотрела, как тушат пожар; потом смотрела, как занимается рассвет; потом быстро переоделась — в лунное платье; он уже ждал ее на скамейке; день обещал быть ясным, словно кто-то сделал накануне что-то хорошее, — так говорила бабушка. Вода сверкала, воздух нагревался; он сидел и курил, и пахло его вишневыми сигаретами за километр; он был в белой рубашке и в приталенном черном бархатном пиджаке, безупречном, ни пылинки; идеально красивый незнакомец.
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Ангел…
— Ну конечно…
— Правда. Ангел Вагнер. Мама и бабушка назвали меня так из-за того, что я летаю… они уже почти назвали меня Мари, но когда я взлетела первый раз, над кроватью… все же лучше, чем Ремедиос, — второй вариант, в честь героини Маркеса, которая взлетела однажды со всеми простынями, которые вешала на просушку; имя Ангел предложила Дениза, моя старшая сестра…
Он засмеялся; вытащил из кармана пиджака тонкую серебристую фляжку, отпил, предложил Ангел, она отрицательно мотнула головой.
— Это амаретто, не любишь?
— Нет, я вишню люблю только свежую или в пирогах, со сливками и сахарной пудрой.
— Звучит заманчиво. А я думал, ты как жокей — на диете, чтобы быть легче.
— Еще чего. Я просто танцую, поэтому толстею контролируемо. А так бы меня уже катали на скейтборде, как в мультике таксу… смотрели? Там такая жирная такса, у нее ножки не двигаются уже, она передвигается на скейтборде, и бока так висят… Ну, а кто же вы?
— Седрик Талбот Макфадьен, — он приподнял воображаемую шляпу.
— Талбот, — она нахмурилась.
— Талбот, — повторил он. — Это девичья фамилия моей мамы.
— Талботы… построили собор, — и она зажала себе рот ладонью и уже почти поняла: под орган Руни сносили зал с их могильными плитами и прахом. Он кивнул и закурил, стал рассказывать, глядя на море, и был так красив, что Ангел хотелось сидеть здесь с ним вечность. Чтобы сверкало море, и чайки кричали, и пахло вишней.
— Ну, хоть что-то ты знаешь. Собор построил мой прапрапрапра… боже мой… прадед. Талботы уехали из Скери полтора столетия назад, еще до замка этого смешного, Дюран де Моранжа; игрушечного; мы жили в Америке; там все хорошо: особняк, «порше», парфюмерные магазины моего отца — Макфадьена, и мужской одежды; и тут прабабушка, ей сто два года исполнилось в прошлом году, мамина бабушка, попросила меня съездить в Скери и договориться, чтобы ее прах был погребен в этом соборе; и чтобы лежала плита с гербом, в лучших традициях Талботов, «мы же Талботы, — повторяла она, — там моя мать и мой отец и мои дедушка и бабушка, и я там буду на месте, мое сердце»; я приехал, подошел к вашему отцу Томашу, а он отказал мне… сказал, что Талботов уже не помнит никто и что орган собору важнее… собор должен жить, а не собирать мертвецов…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
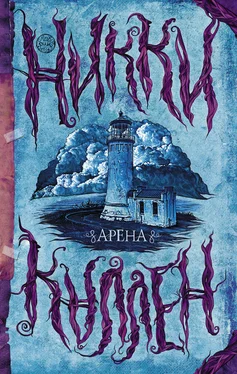








![Дейв Каллен - Колумбайн [litres]](/books/416249/dejv-kallen-kolumbajn-litres-thumb.webp)